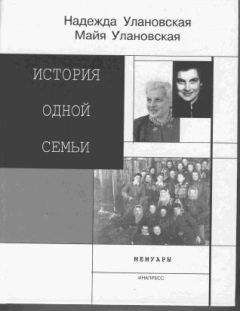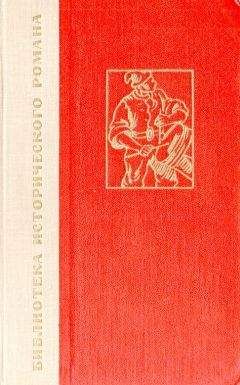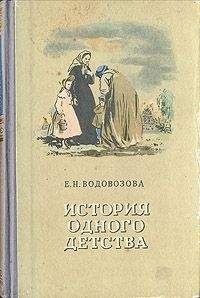Эркман-Шатриан - История одного крестьянина. Том 1
Да, если б они сохранили хоть крупицу здравого смысла, то, должно быть, увидели, что армии сапожников и адвокатов, как они нас называли, не боялись ни знаменитых гренадер Фридриха, ни уланов богемского и венгерского короля, ни благородных потомков кичливых завоевателей.
Ну, а прежде всего, сражаться за свое дело это не то, что позволить переломать себе кости ради принца, который отшвырнет тебя потом в сторону, как старый ненужный костыль. Такая мысль должна была бы прийти им в голову, и, по-моему, Людовик XVI так и думал, потому что позднее были найдены у него в несгораемом шкафу письма, полные отчаяния, — в них он сетовал на то, сколько беспокойства и тревог причиняло ему стягивание войск, состоящих из сапожников и адвокатов, и как хотелось бы ему, чтобы у них началась междоусобная война.
Никогда мне не забыть похода федератов, особенно же душераздирающего вопля, потрясшего Францию в тот час, когда в начале июля, во время великого движения патриотов, была распространена по стране знаменитая речь жирондиста Верньо и мы увидели, что нашу мысль об измене Людовика XVI разделяет Национальное собрание.
Шовель сам прочел эту речь у нас в клубе. Услышав ее, все побледнели от волнения. Верньо говорил:
— Во имя короля, ради отмщения за достоинство короля, ради защиты короля, ради того, чтобы прийти на помощь королю, французские принцы подняли против нас европейские дворы, заключили Пильницкий договор, Австрия и Пруссия взялись за оружие[170]. Король — предлог и причина всех бед, которые враг пытается обрушить на наши головы, всех бед, которые нам угрожают.
А затем, говоря о конституции, вверявшей одному королю защиту отечества, он воскликнул:
— О король, вы делали вид, будто уважаете законы, лишь для того, чтобы сохранить свое могущество для их попрания, конституцию, лишь для того, чтобы она не низвергла вас с трона, на котором вам надо было удержаться, дабы уничтожить ее, народ, лишь для того, чтобы, внушив ему доверие, обеспечить успех ваших интриг. Не думаете ли вы обмануть нас своими лицемерными заявлениями? Да разве для того, чтобы защитить нас, вы выставляете против иностранных солдат такие ничтожные силы, которые им ничего не стоит разгромить? Да разве для того, чтобы защитить нас, вы откладываете сооружение укреплений или готовитесь к отпору, когда мы уже почти стали Добычей тиранов? Да разве для того, чтобы защитить нас, вы оставили безнаказанным генерала, нарушившего конституцию, и сдерживали смелые порывы тех, кто служит ей? Нет, нет, вы не выполнили присяги, данной конституции! Пусть она будет попрана, но вы не пожнете плодов ваших клятвопреступлений. Вы не противодействовали официальным документом победам над свободою, которые одерживались во имя вас, зато вы не пожнете плодов ваших недостойных побед. Теперь-то вы уж ничего не значите для конституции, которую вы так недостойно попрали, для народа, которому вы так подло изменили.
Возглас негодования и возмущения потряс клуб и загремел на маленькой площади, куда доносился голос Шовеля. Все это было правдой! И всякий об этом давно уже думал; с подобным королем, чьи интересы противны народу, суждено было погибнуть. И все говорили:
— Долой его! Пора положить этому конец, а народу — позаботиться о самозащите.
Но еще более явной стала гнусная измена Людовика XVI на следующий день, когда его собственные министры явились в Национальное собрание и объявили, что наша казна, наша армия и флот находятся в таком плачевном состоянии, что все они сообща подают в отставку. Сказав это, министры поспешили покинуть зал, не дожидаясь ответа, как банкроты, которым обстоятельства не сулят ничего доброго, и они бегут — кто в Англию, кто в иные места, оставляя порядочных людей в нищете. Вот что это означало: «Вы нам доверяли. А мы, вместо того чтобы подготовить Францию к отпору завоевателям, не сделали ничего. Теперь же наши друзья пруссаки и австрийцы уже подготовились, они приближаются… Посмотрим, как вы выпутаетесь!»
Глава одиннадцая
И мы все же выпутались!
На следующее утро, 11 июля 1792 года, Национальное собрание объявило отечество в опасности, и вся Франция поднялась, как один.
Слова эти: «Отечество в опасности», — означали:
«Ваши поля, луга, дома, ваши отцы и матери, ваши деревни, все права и все свободы, только что добытые вами в борьбе против дворян и епископов, в опасности. Эмигранты возвращаются с войсками пруссаков и австрийцев, чтобы обобрать и ограбить вас, чтобы вас уничтожить, сжечь ваши овины и лачуги; заставить вас платить десятину, полевую подать, соляную пошлину и прочее и прочее от поколения к поколению… Защищайтесь, держитесь сплоченно, а не то работайте, как волы, на монастырь и сеньора!»
Вот что это означало! Поэтому-то мы и двинулись в поход, как один, поэтому-то удары наши были сокрушительны: все мы жили идеями революции; все мы защищали наше добро, наши права, нашу свободу.
Декрет этот был объявлен во всех общинах Франции. Пушка била ежечасно, во всех деревнях гудел набат; и люди, узнав, что их поля может захватить враг, сами понимаете, бросали серпы на нивах и хватались за ружья — ведь поле принесет жатву и на будущий год, и спустя десять лет, и спустя век; пусть жатву сожгут, скормят лошадям пруссаков; главное — сберечь поле, на котором родится рожь, ячмень, овес и картофель для пропитания детей и внуков.
А у нас великан Элоф Коллен встал на помост посреди площади и прочел декрет, выкрикивая слова, как старый ястреб на скале:
— Граждане! Отечество в опасности! Граждане! Все — на спасение отечества!
Сначала энтузиазм охватил сыновей всех тех, кто приобрел национальное имущество: парни знали наперед: эмигранты вернутся, и их отцов повесят. Вот почему все они вереницей по пять, шесть, десять человек поднимались на помост и записывались.
У меня еще ничего не было, но я надеялся кое-чем обзавестись. Не хотелось мне вечно работать на других. А кроме того, я придерживался идей Шовеля о свободе: во имя свободы я готов был смерть принять! Даже теперь, на склоне лет, старая кровь во мне закипает, как я подумаю о том, что какой-нибудь мерзавец мог бы посягнуть на меня самого или на мои имения.
Итак, долго ждать я не стал; я тотчас же увидел, что надо делать. Как только кончили читать воззвание, я поднялся и завербовался в волонтеры. Первым в списке значился Ксентрай, вторым — Латур-Фуассак, третьим — Мишель Бастьен из Лачуг-у-Дубняка.
Неверно было бы, если б я сказал, что сделать это мне ничего не стоило. Я знал, что бедный старый отец будет жить в нужде целых три года, а дядюшке Жану трудно придется с кузницей, но знал я также, что нужно защищаться, что нельзя допустить дворян на наше место, что надо или самим вмешаться, или тянуть лямку вечно.
И когда я спускался, засунув за ленту шляпы билет волонтера, батюшка, оказавшийся тут, протянул мне руки. Мы обнялись на первой ступени помоста под возгласы: «Да здравствует нация!» Его подбородок дрожал, слезы струились по щекам; рыдая, он прижимал меня к груди и все твердил:
— Хорошо, сынок! Теперь я доволен… Зажила рана, нанесенная Никола. Больше я недуга своего не чувствую!
Говорил он так, потому что его, честного человека, ничто на свете не могло так удручать, как измена, совершенная одним из его сыновей против своего народа и против своей страны. Теперь на душе у него полегчало.
Крестный Жан тоже обнял меня, — ведь он-то понимал, что я по-настоящему буду защищать его ферму в Пикхольце и если б бывшие вернулись, то уж не по моей вине. И он был прав: прежде чем тронуть хотя бы один волос на его голове, пришлось бы изрубить меня в куски.
Так вот, я говорю одну лишь правду — не убавляя, не прибавляя. Нескончаемый энтузиазм питается справедливостью, добрыми законами и здравым смыслом.
Не стоит описывать возгласы, объятия, рукопожатия и клятвы победить или умереть — каждому известно, что так всегда повторяется и что с той поры спесивые и тупые людишки не раз вводили народ в обман с помощью своих мерзких газет и им удавалось разжигать такой же энтузиазм, подстрекая к войнам, которые не имели никакого отношения к Франции и принесли ей огромнейший урон. Только на этот раз народ проявлял энтузиазм по своему почину, сражался, защищал свое имущество, свою свободу, а это лучше, чем пойти на гибель ради славы короля или императора.
И я всегда с умилением вспоминаю всех этих мужчин и женщин, стариков и старух — сгорбленные, усталые, обвивают они руками плечи сыновей, которых только что записали в полк волонтеров; вспоминаю бедняков, прямо сказать — несчастных горемык, жителей Дагсберга, которым нечего было оберегать — они, дровосеки и угольщики, жили в хижинах и никакого прока от войны им не было, но они любили свободу, справедливость и отечество! А все то, что патриоты жертвовали в дар и родителям волонтеров, и раненым, и на обмундирование войск, а приношения от убогих калек, которые умоляли муниципальные власти принять и их грошовую лепту, а мальчуганы, лившие слезы потому, что не доросли до того возраста, когда можно стать барабанщиками и трубачами! И все это было так естественно! Ведь каждый делал, что мог.