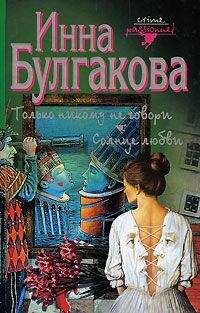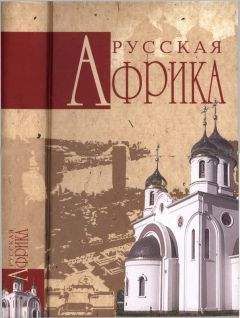Ален Бюизин - Казанова
Мы также поняли, что Феллини терпеть не может, смертельно ненавидит господина Джакомо Казанову. И стремится только высмеять и унизить его.
«Для меня Казанова не существует, я не узнал его и не нашел среди тысяч страниц, которые якобы открывают его нам. Казанова – всего лишь отчет о куче эпизодов, действий, людей; завихряющаяся, но инертная, густая, немая материя. Казанова – экстраверт без тайны и застенчивости (время от времени он говорит об Ариосто, декламирует его стихи и плачет), претенциозный, педантичный, громоздкий. Громоздкий, как лошадь в доме. У него лошадиное здоровье, это жеребец… Он объехал весь свет, а словно никогда не выходил из своей спальни. Это архетип “итальянца”: приблизительность, недифференцированность, общие места, условность, фасад, персона, поза. / Можно понять, почему из него раздули миф: потому что он – сама пустота. Всеобъемлющая беспредметность: Поэзия, Женщина, женская Душа, Науки, Искусства… при полном отсутствии индивидуальности… Кто может знать, кем действительно был Казанова? Мы судим о персонаже книги. И персонаж отделяется от нее, превращаясь в точку отсчета, с которой читатель сопоставляет себя самого. Что до меня, он представлялся мне скучным писателем, который говорит о шумном, тяжелом, трусливом герое, куртизане по имени Казанова, толстом заносчивом мужчине, от которого разит потом и пудрой, глупом, деспотичном и спесивом, как поп или солдафон. О человеке, который всегда хочет быть прав. И который, кстати, часто бывает прав, внешне, потому что все знает. Его рост 1 метр 91 см, он утверждает, что может совершать половой акт восемь раз подряд, так что и здесь состязаться с ним невозможно, переводит с греческого и латыни, знает наизусть Ариосто и математику, декламирует и играет комедии, в совершенстве говорит по-французски, знаком с Людовиком XV и Помпадур… Но как можно общаться с таким дураком? Как испытывать малейший интерес, малейшее любопытство к кому-то до такой степени приблизительному, велеречивому и напыщенному? Еще и храброму: он дрался на дуэлях… Фашист, некий прообраз того первобытного и самодовольного скота, какого мы увидим при фашизме. То есть существо коллективное, а не индивидуальное, упивающееся действием, помпезными и театральными жестами, думающее по системе из лозунгов; удерживая эмоции на температуре тела и горячки. В общем, подростковый возраст в наихудшем выражении: тирания, физическое здоровье, фанатический и лицемерный идеализм. Ведь фашизм – это подростковый возраст, затянувшийся сверх положенного».
Казанова – прообраз фашиста, даже фашист. Надеюсь, это шутка. Какая странная мысль, да еще и несправедливая! Ведь он был частью великой системы, в рамках которой страсти и идеи совершали свое обращение по всей Европе эпохи Просвещения. Это все-таки значит менять роли местами и чересчур быстро забыть, что Казанова, объявленный каббалистом и виновным в презрении к религии, автором еретических писаний, владельцем книг, запрещенных Церковью, был осужден судом инквизиции и заключен в наихудших условиях в тюрьму Пьомби! Стоит ли напоминать, что содержание обвинения ему так и не сообщили, что не было ни допроса, ни суда, а следовательно, никакой возможной защиты, ему даже приговор не зачитали. В этом полном отсутствии процедуры, из-за чего обвиняемый пребывал в полнейшем неведении, не было ничего исключительного, как то подтверждает историк Леопольд Курти в «Исторических и политических мемуарах о Венецианской республике, составленных в 1792 году», подчеркивая, что подозреваемого «осуждают, не зачитывая ему приговора, даже не ставя его в известность о его преступлении, и он не может услышать ни слова в свою защиту». Если где-то и существовала какая-нибудь форма фашизма (хотя этот термин следует использовать крайне осторожно, тогда как Феллини обращается с ним чересчур небрежно), то, скорее, в самой Венецианской республике, которая превратила повсеместное шпионство и доносительство в страшно эффективный образ правления, основывала свою торговлю, то есть безопасность морских путей, на своей военной мощи, на совершенстве своего арсенала, и была способна расторгнуть любой союз, пойти на любое предательство.
Ненависть Феллини к Казанове такова, что он заставил Дональда Сазерленда – Дональдино, как он его называл (по-моему, более презрительно, нежели дружески) – дорого заплатить за сыгранную роль. Для канадского актера, проявившего поистине героическую самоотверженность и высочайший профессионализм, съемки быстро превратились в сущие мучения, ведь ему приходилось подчиняться бесчисленным и экстравагантным требованиям режиссера, который, подобно пластическому хирургу, не успокоился, пока не исказил всеми возможными и вообразимыми способами, до неприличия, ненавистный облик обольстителя. Он выбрил ему виски, и лоб тоже, чтобы сделать выше, велел выщипать ему брови, примерить триста разных носов и триста подбородков, сто двадцать шесть раз изменить грим, подпилить зубы, «чтобы сделать его похожим, – объяснил Феллини, – на “профиль с медальона”, на ракообразное, насекомое, на абстрактное, далекое, странное лицо…» Совершенно необходимо снова и снова обезображивать Казанову, которому не удастся искупить своего непростительного существования сексуальной марионетки. К тому же надо думать, что Казанова, с точки зрения маэстро, слишком «дородовый», чтобы иметь определенное и определимое лицо. Чистая фантазия, подверженная всякого рода вариациям и пластическим модификациям.
Какое странное ожесточение! Какое мстительное бешенство! Вот, наверное, почему конец фильма, одновременно патетический и комичный, в большей степени вдохновленный остроумным, но и язвительным, злым пером принца де Линя, так похож на жестокую казнь. В конторе замка Дукс Казанова, дряхлый стонущий старик, яростно требует себе макарон, даже жалуется графине, тогда как все остальные слуги над ним потешаются. Званый вечер у графа Вальдштейна. Приходит Казанова, очень старомодный, смешной жеманник, отставший от времени, престарелый красавчик «в буйстве бархата, перьев, чулок, блесток», контрастирующих со сдержанным современным стилем. Из вежливости и любопытства его просят почитать стихи. И Казанова, лиричный и возбужденный, начинает помпезно декламировать стихи Ариосто со старческой мимикой и бурной жестикуляцией: «Он стал столь неистов, столь взбешен, что утратил рассудок. Он не подумал выхватить из ножен свой меч, который мог бы сотворить чудеса. Но его огромная сила в тот момент не нуждалась ни в топоре, ни в палице. Он доказал это, вырвав с корнем большую сосну с первого раза…» Сначала сдерживаемые, потом все более шумные смешки женщин. Раздосадованный и утративший иллюзии, Казанова медленно поднимается по большой лестнице и запирается в своем рабочем кабинете. Последняя жестокость режиссера: в библиотеке, посреди книг, восседает нелепый и бесполезный автомат, сопровождавший былые любовные утехи.
Что еще серьезнее с моей точки зрения – Казанова для Феллини еще и отвратительный писатель: «Я продвигался по бескрайнему бумажному океану “Мемуаров”,– рассказывает режиссер, – по сухому перечню фактов, собранных с педантичностью статистика, по дотошной, тщательной, упорной, не слишком лживой описи, и раздражение, неприятие, скука были единственными разновидностями чувства подавленности и отчаяния, одолевавших меня. Это отчуждение, эта тошнота подсказали мне смысл фильма. Я вбил себе в голову рассказать историю человека, который не родился, приключения зомби, мрачной марионетки без собственных идей, чувств или мнений; “Итальянца”, узника чрева своей матери, могилы, где он мечтает о жизни, не живя, в мире, лишенном эмоций, населенном только объемами, перспективами гипнотических и ледяных форм. Эти пустые формы складываются и рассыпаются в колдовстве аквариума, в морской глубине, где теряется память, где все становится плоским, в незнакомом мире, в котором человеку не за что зацепиться». С ума сойти. Это невозможно. Наверное, мы читали разные тексты. Говорят даже, что знаменитый режиссер, читая «Историю моей жизни», рвал каждую прочитанную страницу, настолько текст был ему противен. Как же можно не заметить, что Казанова замечательный писатель, что его слог легок и прост, великолепно подвижен, что он обладает редкой способностью обрисовать человека в нескольких строчках, что он чудесный рассказчик, умеющий создавать эффект и обладающий врожденным чувством стиля? В этом плане тысячу раз прав Филипп Соллерс: «Никто не хотел, чтобы Казанова был писателем (и скажем трезво: одним из величайших писателей XVIII века). Его превратили в циркового медведя. Ожесточенно искажают его образ. Постановщики, набросившиеся на него, представили его куклой, любовной машиной, более или менее старческой или смешной марионеткой. Он занимает умы, но он их и тревожит. Хотят рассказывать о его “галантных подвигах”, но при условии лишить героя его глубины. Короче, к нему ревнуют, к нему относятся со смутной досадой, чопорно, свысока. Феллини, в особенно глупом замечании, дошел до того, что назвал Казанову дураком. Лучше было бы представить его, наконец, таким, каков он есть: простым, прямым, смелым, образованным, обольстительным, забавным. Философом в действии»[120].