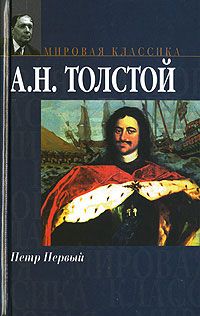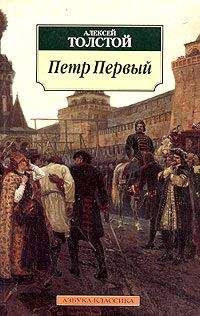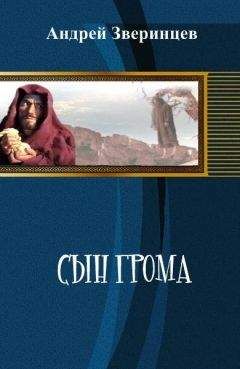Садриддин Айни - Рабы
От этой надежды лицо Садыка посветлело. На душе стало вдруг легко и радостно. Садык обнял бычью морду и поцеловал его в гладкую, скользкую горбинку на носу. Потрепал его сильные, гладкие плечи.
Когда Садык вернулся в комнату, семья его уже спала.
Садыку хотелось поговорить о своих раздумьях. Хотел было разбудить жену, но вспомнил: «Что могут посоветовать нам женщины? Волос их долог, а ум короток».
Но ни успокоения, ни сна не было.
Забылся лишь на мгновение, и тотчас приснилось, как двое бедняков уводят Черного Бобра из стойла. Садык схватил нож и кинулся за ними. Он хотел воткнуть нож в Черного Бобра, но, словно восковой, нож вдруг стал легким и мягким.
С бьющимся, ноющим сердцем Садык проснулся.
Он сел и прислушался. Все вокруг было тихо. По-прежнему мирно спала семья.
Садык опять лег, но сна не было. А если вдруг забывался, снова что-то случалось с Черным Бобром: то его кто-то бил на каком-то чужом дворе, то он шел полем, волоча чужую соху.
Видно, уже перед утром его, словно обухом ударило, свалил сон. Он спал тяжело и, видно, недолго, но когда проснулся, во дворе уже светило солнце и ребята весело играли сырым, тающим снегом.
Жена во дворе у очага мыла котел.
Помывшись, Садык сел к жаровне, накрыв одеялом ноги.
Жена, постелив скатерть, поставила перед Садыком чашку каши, а сама села в стороне, внимательно приглядываясь к мужу.
Рассеянно начав свой завтрак, он не замечал ни вкуса еды, ни даже того, что он ест.
—Что с вами, отец? — спросила у него жена.
—Да нет, ничего.
—А я смотрю, не заболели ли вы, сохрани бог! Ночью проснулась, слышу, вы что-то охаете, стонете, мечетесь из стороны в сторону. Я тронула вас, думала, у вас жар. Нет, жара не было. Как только начало светать, вы успокоились. Я скорей ребят прогнала во двор, чтоб вас не будили. Кашу сварила получше, а вы и не едите ее.
—Сколько времени сейчас?
—Да уже полдень.
—Ого. Много я спал! — И Садык заторопился.
—Ну куда вы? Покушайте сперва.
Но Садык, не слушая ее, вышел во двор и уже оттуда крикнул жене:
—Поймай большую пеструю курицу. Я ее вечером зарежу. Посолишь, а завтра сваришь.
—Что вы? Зачем ее резать? У нее гребешок покраснел, она вот-вот нестись начнет. Зиму передержали, а теперь резать?
—Не только ее, всех кур за эту неделю надо порезать, — строго и отрывисто ответил Садык.
Жена побледнела и с тревогой посмотрела на мужа.
—Как же нам без кур? Яйцами я кормлю детей, когда мяса нет. За зиму весь запас яиц кончился. Я все ждала, чтоб куры скорей стали нестись. Теперь вот-вот яйца будут, а вы резать велите?
Садык потерял самообладание от ее упрямства:
—Жена! Волос твой долог, а ум короток. Не соображаешь того, что не сегодня-завтра тут колхоз будет. Всех кур до одной туда заберут. Не лучше ли их съесть самим?
—Кто ж их у нас заберет?
—Колхоз.
—А кто это такой?
—Беднота.
—Те, что при земельной реформе забрали у богачей землю, бороны и сохи?
—Эти самые. А особенно те из них, что стали большевиками и комсомольцами.
—Вы же сами говорили, что середняков власть не трогает, а даже помогает им, в чем есть нужда.
—Так было. Помогали. У нас только бык был, а нам корову дали. Правильно. Вот и была помощь.
—Так чего ж вы испугались?
—Если они заберут все наше имущество, что ж мне останется от «всей их помощи»?
Садык задумался. Она подошла к нему ближе.
—Как богу угодно, так и случится. Что суждено, того не миновать. Не расстраивайтесь. Идите к очагу, погрейтесь. Чаю заварю. Вы опять что-то побледнели.
—Нет, мне надо пойти, надо поговорить… Покойный Бобо-Мурад, видно, верно говорил.
—А что он говорил?
—Когда реформу проводили, он мне сказал: «Смотрите, сейчас вы, середняки, заодно с беднотой против нас, но придет день, и то, что происходит с нами, произойдет с вами. Тогда вспомните старого Бобо-Мурада». Так что он верно сказал. А ведь бог его любил, без того откуда ж ему было взять столько имущества, столько богатства.
—Тут божья любовь любовью, а он не от любви разбогател. Мы все знали его: ростовщик, бессовестный был, — пять пудов пшеницы одолжит, а при расчете требует десять. Сколько земли у народа отнял за долги! А перед смертью сколько зла натворил: жену Сабира-бобо убил, Сабира-бобо до смерти забил — бедняга умер в больнице… Божья любовь?
—Ну, я пойду.
—Куда ж идти в этакий холод?
—К Хаджиназару. Погорюем с ним вместе, посоветуемся. Он ушел…
В жаровне у Хаджиназара весело горели дрова. По комнате растекалось ласковое тепло.
Возле огня, укрывшись стеганым желтым халатом, в шапке, с повязанной поверх нее шерстяной чалмой, дремал Хаджиназар. Услышав в прихожей несмелые шаги, он очнулся:
—Кто там?
—Это Садык.
—Чего ты там топчешься? Иди сюда.
—Я думал, вы спите. Хотел уйти.
—Какой сон в это время! Иди, потолкуем.
Садык уселся у очага, а Хаджиназар напротив, накинув на плечи свой халат, засунув за спину подушку.
Садык протянул было ноги к жаровне, но отдернул их:
—Ох, как жарко натопили. Чуть не обжегся.
—Я абрикосовые деревья срубил! Пусть лучше меня греют, чем зачахнут в колхозе. Десять деревьев срубил на дрова. А кто может запретить? Нужны мне дрова? Нужны. Свои деревья рублю? Свои. И конец!
Садык спросил с отчаянием и страхом:
—А колхоз будет? Это решено?
—Пока не решено. Но решат. Большевики такой народ, — если задумают, кончено. Их ничем не уломаешь, поставят на своем.
—Но если большинство не захочет идти в колхоз, не потянут же силой?
—То-то и горе, что большинство захочет. Уже хотят. Кто это большинство? Голодные работники да босые бедняки. У кого никогда ничего не было, те и хотят. А их большинство. Им терять нечего. Ну, отдадут назад четыре танаба, что получили при земельной реформе, — и конец.
—А ведь и такие есть бедняки, которым и четыре танаба не досталось. Такие особенно захотят колхоз. Их ничем не удержишь ведь? — теряя последнюю надежду, спросил Садык.
—Им что! А вот у нас заберут все, что осталось, все дочиста! А потому, пока суд да дело, я прирезал хорошего курдючного барана. Одно сало. Засолил его и съем сам, со своей семьей. И конец.
—Я тоже хотел было прирезать быка. Доморощенного своего Черного Бобра. Да не могу. Рука не подымается.
—Ждешь, чтоб у них рука поднялась? У них подымется, — им что!
—Другие уведут, я не увижу. А сам не могу. Я сам его растил, холил.