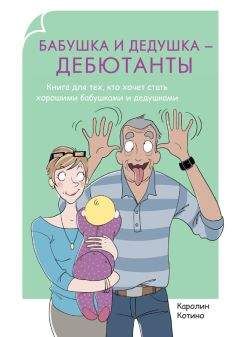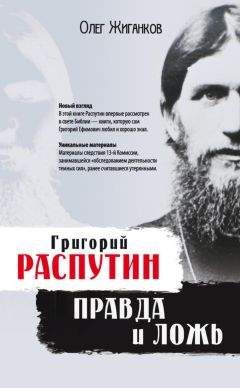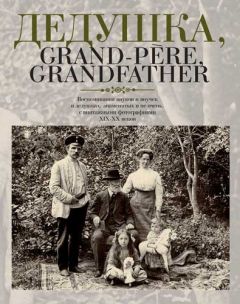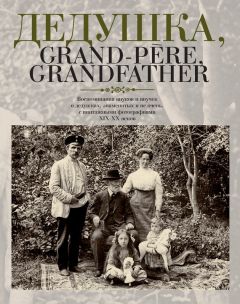Дэн Симмонс - Черные холмы
По лицу Роберта уже гуляла улыбка, но Паха Сапа продолжал:
— Вазичу были немного ошарашены, потому что шайенна и мы, вольные люди природы, считали так или иначе священными почти каждый камень, каждый холм, каждое дерево, реку, плато, каждый участок прерии.
Теперь Роберт уже смеялся вовсю — тем свободным, легким, естественным, всегда непринужденным смехом, который так напоминал Паха Сапе мелодичный смех Рейн.
— Я понял, отец. На Черных холмах и вокруг, куда бы ты меня ни привел, нет ни одного места, которое не было бы частью веры икче вичаза. И все же… тебя никогда не волновали проблемы моего… религиозного воспитания?
— Твой дед крестил тебя, и ты — христианин, Роберт.
Роберт снова рассмеялся и прикоснулся к обнаженному предплечью отца.
— Да, и это действо определенно дало результат. Не помню, кажется, я не писал тебе об этом, но в Денвере я часто хожу в разные церкви… не только в правильную часовню при школе, но и с другими учениками, некоторыми наставниками и их семьями по воскресеньям. Мне больше всего понравилось в католической церкви в центре Денвера, когда я был на мессе с мистером Мерчесоном и его семьей… в особенности на Пасху и другие католические праздники. Мне понравился ритуал… запах благовоний… использование латыни… всё.
Думая о том, что бы на это сказали его жена и тесть, протестантский миссионер-теолог, Паха Сапа спросил:
— Ты что, хочешь стать католиком?
Мальчик снова рассмеялся, но на сей раз тихо. Он снова посмотрел на громаду Харни-пика.
— Нет, боюсь, я не способен верить так, как верил ты… а может, и сейчас веришь. И вероятно, верили мама и дедушка де Плашетт.
Паха Сапа поборол в себе желание сказать Роберту, что его дед словно утратил веру в те полтора года, которые он прожил после смерти своей молодой дочери. Паха Сапа слишком хорошо понимал эту опасность — иметь одного ребенка, ребенка, который становится твоей единственной связью с невидимым будущим и, как это ни странно и в то же время истинно, с забытым прошлым.
Роберт продолжал говорить.
— По крайней мере, я пока не встретил такой религии, но я хочу увидеть и узнать больше, побывать во многих местах. Но пока, пожалуй, единственная религия, приверженцем которой я являюсь… Отец, ты слышал о человеке по имени Альберт Эйнштейн?
— Нет.
— Пока о нем знают немногие, но, я думаю, это только пока. Мистер Мюллих, мой преподаватель физики и математики, показал мне статью, которую профессор Эйнштейн опубликовал три года назад: «Über die Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen und die Konstitution der Strahlung»,[111] и из этой статьи, как говорит мистер Мюллих, вытекает, что свет обладает энергией и может действовать как частицы очень малых размеров, фотоны… вероятно, на сегодня эта теория — мое максимальное приближение к религии.
Паха Сапа в этот момент посмотрел на своего сына так, как смотрят на фотографию или рисунок какого-нибудь очень далекого родственника.
Роберт тряхнул головой и снова рассмеялся, словно стирая мел с доски.
— А знаешь, отец, что мне больше всего напоминали католические, методистские и пресвитерианские церкви, в которых я бывал?
— Понятия не имею.
— Танец Призрака шамана-пайюты, о котором ты мне рассказывал когда-то очень давно, — Вовоки?
— Да, его так звали.
— Его учение о приходе Мессии… он, видимо, имел в виду себя… и о ненасильственных действиях, и о том, что его вера приведет к воскрешению близких и предков, к возвращению бизонов, о том, что танец Призрака вызовет катаклизм, который сметет бледнолицых и всех неверующих, великие скорби[112] и все те ужасы, о которых говорит Апокалипсис, — это очень напоминало мне христианство.
— Многие из нас так и подумали, когда узнали об этом.
— Ты мне рассказывал, что ты с Сильно Хромает собирался послушать этого пророка вместе с Сидящим Быком в агентстве Стоячей Скалы, но Сидящего Быка убили, когда он воспротивился аресту…
— Да.— Но ты никогда не рассказывал мне о том, что стало с Сильно Хромает. Только то, что он умер вскоре после этого.
— Да и рассказывать особо нечего. Сильно Хромает умер вскоре после того, как застрелили Сидящего Быка.
— Но как? То есть… я знаю, ты считал, будто твой почетный тункашила был убит задолго до этого, вскоре после того, как тебе было видение и кавалерия, мстившая за убийство Кастера, сожгла твою деревню, но ты оставил школу, где тебя обучали священники, и отправился в Канаду искать Сильно Хромает, когда тебе было… Отец, ведь тебе тогда было ровно столько, сколько мне сейчас.
Паха Сапа покачал головой.
— Ерунда. Я был гораздо старше… мне почти исполнилось шестнадцать. Один заезжий священник из Канады рассказал о человеке, который был очень похож на моего тункашилу. И я должен был проверить.
— И все же… не понимаю, отец… ты отправляешься в такую даль — в Канаду, чтобы найти там одного человека. К тому же ты, кажется, говорил, что зимой. А тебе только пятнадцать. Как тебе это удалось?
— У меня был пистолет.
Роберт рассмеялся так, что Паха Сапа даже испугался, как бы мальчик не свалился с обрыва.
— Тот тяжелый армейский кольт, что ты хранишь до сего дня? Я его видел. И кого же ты убивал этой чудовищной штукой? Бизонов? Оленей? Пум?
— В основном зайцев.
— И ты нашел Сильно Хромает? Хотя прошло столько времени?
— Прошло не так уж много времени, Роберт. Меньше пяти лет после Пехин Ханска Казаты — лета, когда мы убили Длинного Волоса на Сочной Траве…
Паха Сапа помолчал, потом потер виски, словно его мучила головная боль.
— Ты здоров, отец?
— Вполне. Ну, в общем, найти моего тункашилу было не так уж и трудно, когда я оказался в стране Бабушки. Полицейские в красных мундирах сказали мне, где он, и сказали, что я должен забрать его оттуда и увести домой.
— А как Сильно Хромает остался в живых, когда солдаты убили его жен и почти всех в деревне?
— Он вышел из своего типи, когда с рассветом деревню атаковала кавалерия Крука, и его тут же срезала пуля…
Паха Сапа прикоснулся ко лбу и пощупал собственный шрам — тот, что остался после удара прикладом, подарок от Кудрявого, старого разведчика кроу. Он помолчал секунду, его пальцы замерли на выступающем белом рубце, который красовался на его лбу вот уже тридцать шесть лет. Он сейчас впервые понял, что у него с Сильно Хромает были почти одинаковые шрамы.
— Так вот, Сильно Хромает, пока шла эта схватка, был без сознания, лежал под копытами лошадей, но, когда дым от горящих типи и тел прикрыл их отход, два молодых племянника вынесли его с поля боя в заросли ивняка. Когда мой тункашила пришел в себя два дня спустя, его прежней жизни, друзей и дома — тийоспайе Сердитого Барсука — больше не существовало, а он лежал в повозке, которая направлялась на север в поисках рода Сидящего Быка, который ушел в страну Бабушки.
— Но Сидящий Бык вернулся из Канады до возвращения Сильно Хромает.
— Да. У Сильно Хромает было воспаление легких, когда Сидящий Бык с оставшимися у него двумя сотнями или около того людей (все, кто был прежде одной семьей, ушли, и от его прежней тийоспайе в восемьсот вигвамов остались одни слезы) отправился на юг, и я нашел Сильно Хромает в деревне, в которой было только восемь или десять полуразрушенных вигвамов и совсем не оставалось еды. Мой тункашила жил там с двумя десятками стариков и женщин, слишком напуганных, чтобы возвращаться назад, и слишком ленивых или безразличных, чтобы позаботиться о нем в его болезни.
— И какой это был год — восемьдесят второй?
— Восемьдесят первый.
— И ты отвез его назад, но не прямо в агентство Стоячая Скала?
— Нет. Туда он попал позднее, чтобы быть с Сидящим Быком. Сначала он отдыхал и пытался набраться сил, жил рядом со мной в Пайн-Риджском агентстве. Но он уже никогда не стал таким, как прежде. И воспаление легких, я думаю, не было никаким воспалением… и эта болезнь так никогда и не оставила его. Я почти уверен, что это был туберкулез.
Начав рассказывать историю о своем любимом дедушке, Паха Сапа полностью перешел на лакотский. Рассказ о последних днях Сильно Хромает почему-то требовал этого, казалось Паха Сапе, но он понимал, что Роберту будет трудно улавливать все оттенки значений. Хотя его сыну языки давались легко, Паха Сапа знал, что единственная возможность для него попрактиковаться в лакотском — это те немногие летние недели, что он проводит с отцом или когда они бывают в какой-нибудь из резерваций. Для Паха Сапы это был такой прекрасный и естественный язык, на котором простое «спасибо» (пиламайяйе) означало буквально что-то вроде «чувствуй ты-мне-сделал-хорошо», а на вопрос, как пройти к такому-то дому, можно было получить ответ: «Чанку кин ле огна вазийатакийя ни на чанкуокиз’у исининпа кин хетан вийохпейятакийя ни, нахан типи токахейя кин хел ти. Найяшна ойякихи шни», что для Роберта прозвучало бы как: «Этой дорогой на север ты-идешь, и перекресток второй отсюда на запад ты-идешь, и там в первом доме он-живет. Ты-пропустить ты-не-сможешь никак». Но если для тебя лакотский язык был неродным, то еще большие трудности возникали с предложениями, связанными с разной техникой. Так, простой вопрос о времени превращался в «Мазашканшкан тонакка хво?», что означало: «Железка-тик-тик сколько?» И самое главное, это был язык, в котором каждый предмет наделялся своими духом и волей. И потому, вместо того чтобы сказать: «Будет гроза», человек говорил: «Скоро прибудут существа грома». За их замечательные четыре года супружества Рейн (которая обладала тонким умом и имела преимущество, находясь в обществе лакота) так никогда и не освоила этого языка, и нередко ей приходилось спрашивать у Паха Сапы, что сказал тот или иной индеец из резервации после скорострельного обмена любезностями.