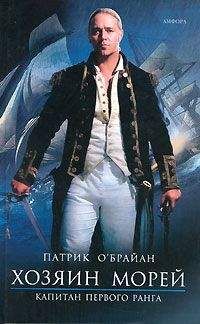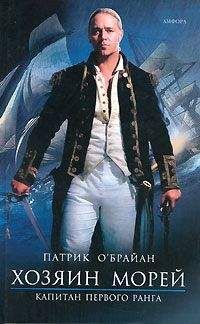Валерий Замыслов - Иван Болотников Кн.2
«Праведный» — зло думал Василий Иваныч. — Не много ли захотели бунташные рыла! Вот и Пашков о «праведном» царе возомнил. Не сиделось ему веневским сотником. Всю служилую мелкоту с Украйны собрал, сколотил войско огромное. Сорок тыщ у Истомы Пашкова. Лихо, лихо под Ельцом и Троицким воевали. Лихо и глотку драли: побьем Шуйского! Побьем боярского царя! На престол сына Ивана Грозного — Дмитрия Иваныча посадим. Он южных дворян и деньгами, и землями, и мужиками пожалует. «Пожалует», хе-хе. Захотели молочка от бычка. Особо на мужиков расщедрится. От бояр заберет — и дворянишкам худородным. Дудки! У мертвых пчел меду запросили. Дудки! Без бояр царству не быть. Ни мужикам, ни служилой мелкоте не порушить высокие древние роды. Будет так, как богом заведено: царь и бояре правят, дворяне — служат, мужики — пашут; пашут на господ, а не на себя, как Ивашка Болотников помышляет. Никогда не видать мужику ни земли, ни воли. Пусть хоть всем миром поднимутся… да и поднялись. Сколь добрых бояр загубили (И вновь царю Василию стало жутко. Мужик с топором каждую ночь снится.) Семьдесят городов в руках бунтовщиков. Ныне же на саму Москву замахнулись. Вот тебе и лапотники! Либо боярскому царству быть, либо мужичьему. Все устои рушатся. Никогда еще на Руси такого лихолетья не было: мужики осадили столицу! Тут и воровские дворяне устрашились: мужик и их сметет, коль Москву захватит. Не зря ж Истома Пашков одумался, И про срам свой забыл! Забудешь, Истома, коль мужик с топором подступает, забудешь! Давно пора тебе одуматься. Но один ты Москве не надобен. Сделай так, чтоб все твое воровское войско изменило Болотникову. И ты это сделаешь, коль жить хочешь и коль намерен в дворянах остаться. Сделаешь, Истома!
Ивашку же Болотникова — анафеме предать. Огласить со всех церковных амвонов, что он антихрист и безбожник. Предать немедля! Проклясть, отлучить от церкви и веры христовой — и чернь отвернется от еретика. Мужик с богом живет, и бог для него всего превыше!
Отлучить православного человека от церкви — дело редкостное, необычное. Пришлось идти к патриарху. Владыка, выслушав царя, долго молчал. Неужто колеблется, подумалось Василию Иванычу, неужто оставит Ивашку Болотникова в христианах?.. Да и впрямь сказать: мудрено на такое пойти. Сколь бы ни было бунташных коноводов на Руси, но никого еще из паствы не отринули. Однако ж пора и покарать. Уж слишком великую замятию Ивашка Болотников учинил: как-никак, а целая мужичья война на Руси. Ивашка же — первый заводчик. Первого его и от Христа отринуть.
— Быть посему, — качнувшись в кресле, жестко, враждебно молвил святейший. — Богомерзкому приспешнику диавола не ходить боле в христовом стаде. Не ходить!
Глава 15
Анафема
Лето минуло, осень на исходе, а в глазах Василисы все стоит и стоит Звень-поляна. Не зря в леса ходила, не зря великий страх изведала, не зря на чудодей-цветок ворожила: жив Иванушка, жив сокол любый! Именно он вышел с народной ратью из Путивля, именно он подступил ныне к Москве. Не обманул ее кочедыжник.
Была перед октябрем-свадебником в торговых рядах, слышала речи мужиков:
«На Угре цареву рать побил. Теперь к Престольной идет Иван Исаевич».
«Сказывают, дюж воевода?»
«Дюж. Высок и могуч. Был его посланец у нас на селе, так мы об Иване Исаевиче дотошно сведали. Ране он в селе Богородском на землях князя Телятевского сидел, за сошенькой ходил. Наших кровей, мужичьих!»
У Василисы сердце остановилось. Он! Правду сказал чудодей-цветок. Он, ее Иванушка!
Ожила, зарделась ярким румянцем и будто на крыльях полетела к дому. С того дня совсем потеряла покой; ходила отрешенной, все валилось из рук.
— Что это с тобой, Василиса? — спрашивал Малей Томилыч. — Аль занедужила чем?
— Все слава богу, батюшка, — тихо отвечала Василиса и принималась было за дела, но миновал час, другой — и вновь, забыв обо всем на свете, становилась она задумчиво-отрешенной.
«Уж не дурной ли сглаз? — тревожился подъячий. — Ни меня, ни сына не видит».
Василиса и впрямь никого не замечала. В глазах, на сердце, в думах — любый Иванушка, муж невенчанный.
Когда ж Болотников пришел к Москве, Василиса засобиралась в дорогу. Надо идти, ждать нечего, надо добраться до рати. Таем от сына и подъячего — тот был у себя в Поместном приказе — вышла из Кремля и направилась к Серпуховским воротам Скородома. Спасской улочкой спустилась с холма к Пловучему, «живому» мосту, миновала Москву-реку и очутилась (пройдя Балчуг и Харчевные ряды) на Ордынке. Василиса слышала, что здесь когда-то жили татары и русские дворцовые слуги — возили грамоты от Великого князя. Сюда же на Ордынку татары пригоняли табуны степных коней, быстроногих, сильных и выносливых. На торги приезжала в Замоскворечье вся Русь. Сколь было шума, крика и толкотни на Ордынке! (Здесь и Малей Томилыч выбрал себе коня. Привел на двор, довольно сказывал: хоть и приземист, но добрый конь).
Из Кадашевского переулка выехала боярская колымага, окруженная холопами. Один из вершников ожег молодецким взором статную женку, озорно крикнул:
— Садись ко мне, пригожая, на край света увезу. Садись, горячо приголублю!
Из колымаги высунулся скудобородый боярин в куньей шубе, поманил вершника пальцем. Холоп подъехал. Боярин распахнул дверцу, огрел детину плеткой:
— Не я ль сказывал: в пути рот не разевай. Блюди господина свово, презорник!
— Прости, боярин, — повинился холоп, а глаза удалые, смешливые.
Василиса улыбнулась с грустинкой: заглядываются на нее добры молодцы, проходу не дают, а вот приголубить некому — голубь был далече. Ну да уж скоро его увидит, припадет к груди широкой; жарко зацелует. Иванушка, родимый!..
Шла с затуманенными глазами до Серпуховских ворот.
— Куда путь держишь, женка?
У ворот густая толпа стрельцов — суровых, неприступных.
— Куда? — замешкалась Василиса. — Надо мне, служивые. В святую обитель богу помолиться.
— Спятила, женка! Аль царева указа не ведаешь?
— Какого указа?
— Вот неразумная! Никого из Москвы выпущать не велено — воровская рать под стенами. Нашла время по обителям ходить.
Василиса вздохнула и повернула вспять. Надо же какая незадача! А может, из других ворот выпустят?
Но всюду Василису гнали прочь: Москва наглухо закрылась от воров. Возвратилась домой опечаленная и измученная.
Тоска, смертная тоска на сердце: не ест, не пьет, не спит Василиса. Малей Томилыч, отчаявшись, надумал сходить до заморского лекаря. Правда, дело тяжкое: иноземные лекари лишь царя да знатных бояр ведали, но денег у цодъячего хватит, ублажит любого немчина. Лишь бы Василису избавить от неведомой хвори.
Василиса же вспомнила о бабке Фетинье. Укорила себя: давно у ведуньи не была. Авось и на сей раз Фетинья что=нибудь поворожит да посоветует.
И вновь таем засобиралась в дорогу. Но теперь и из Кремля не выйти: царь Василий, страшась черни, приказал закрыть кремлевские ворота и разобрать мосты через рвы. Стрельцы у Фроловской башни однако подсказали:
— Ступай к Боровицким, женка.
Боровицкие ворота оказались открытыми: через них пропускали обозы, прибывшие из Холмогор, Вологды и Ярославля. Выпускали же из Кремля лишь дворцовых слуг и приказных людей по государевым делам.
— А тебе по какой надобности, женка? — спросили стрельцы.
Василиса на сей раз не замешкалась, еще дома припасла ответ:
— Недалече, мне, служилые. На Пожар[69] за румянами.
— И без румян хороша, — рассмеялись стрельцы. — Проворь назад!
— Пропустили бы, ребятушки, — неожиданно заступился за Василису кряжистый чернобородый мужик с багровым шишкастым носом. — То женка подьячего Поместного приказа Малея Илютина… На-ка для сугреву, ребятушки, — сунул служилым несколько серебряных монет. — Зябко у ворот торчать. В кабак сходите.
— Ведаем Малея Илютина. Добрый человек, — оттаяв, молвили стрельцы. — Проходите.
— Спасибо, служилые, — поклонилась Василиса. Миновав мост через Неглинную и выйдя к Знаменке, спохватилась: надо поблагодарить чернобородого заступника. Оглянулась, но того и след простыл.
Знаменкой не пошла, а повернула к государеву Аптекарскому саду, тянувшемуся от Боровицкого до Троицкого моста по правому берегу Неглинной. За невысоким решетчатым тыном виднелись «пользительные» (целебные) деревья и кустарники, на которые опускался рыхлый снег. Затем потянулись дворы царских стряпчих и стольников, стрелецких голов и сотников, кремлевских архиереев.
Подул ветер — промозглый, напористый. Василиса, хоть и была в теплой телогрее на лисьем меху, зябко поежилась. Надо было шубу надеть, запоздало подумалось ей, ишь какой ветер остудный и знобкий.
У храма Николы Зарайского, что у Троицкого моста в Сапожке, густая толпа прихожан; норовят протиснуться внутрь, но весь храм забит богомольцами. Из открытых дверей вырывается могучий утробный голос дьякона: