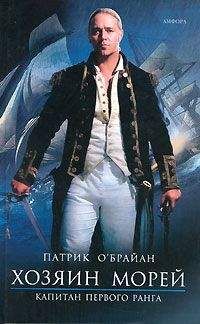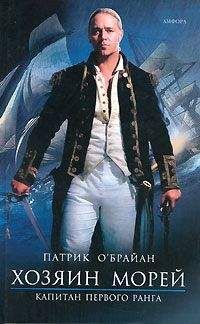Валерий Замыслов - Иван Болотников Кн.2
Мамон ушам своим не поверил: сотня лихих — в каких только стычках не были! — не могла осилить два десятка княжьих холопов.
— Век таких бар не видел, — разводил руками Одноух. — Будто сатана на коне. И удалью, и хитростью взял.
Мамон хоть и рассвирепел — сколь денег уплыло! — но долго на Ермилу не гневался: нужен ему был Одноух. Ловчей Ермилы никто в чернецы не «постригался». Сколь ризниц уже очистил!
К Василисе пришел ночью.
— В здравии ли, женка?
— Где я? — прижавшись к стене, спросила Василиса. — Зачем заточили сюда?
— Зачем? — поставив на стол фонарь, переспросил Мамоц. — Для дела, женка… Да ты не пужайсь, не трону.
— Кто ты? — Василиса не узнавала Мамона. — Какая корысть прятать меня?
— Деньги нужны, женка. Деньги — крылья, с ними ни ума, ни силы не надо. Стоит крякнуть да денежкой брякнуть — все будет, хе.
— Не ту похитил, — покачала головой Василиса. — У меня сроду своего алтына не было.
— Верю, женка, верю. В злате-серебре не купалась. Однако ж ныне цены тебе нет. За тебя никакой казны не пожалеют.
— Кто?
— Как кто?.. Отец сына твоего — Болотников Иван Исаевич.
Василиса ахнула, изумленные глаза застыли на Мамоне. Кто этот человек?! На Москве тайны ее никто не знает. Ни Малей Томилыч, ни приходской поп… Никитка? Ужель Никитка кому обмолвился? Вряд ли: строго-настрого заповедала никому и ничего не сказывать об отце, иначе несдобровать… Малей Томилыч? Когда пришла в его дом, сказалась женой беглого мужика. А тот даже имени не спросил, для него любой мужик — подлый человечишко без звания… Откуда ж этот рыжебородый проведал? Теперь беды не избыть.
— Зачем смеешься надо мной, батюшка? Я — супруга подьячего Малея Илютина, что в Поместном приказе сидит.
— Лукавишь, женка. Никогда супругой Малея ты не была. Не пошла с ним под венец. Не лукавь!.. Никитка твой весь в Ивана. Правда, нравом, кажись помягче, никак в тебя. А понесла ты его в лесу, когда с Афонькой Шмотком от княжьих людей укрывалась… Опосля в село Богородское пришла.
— Кто ты? — выдохнула Василиса.
— Аль не признала? — Мамон придвинул к себе фонарь. — А ну вглядись, вглядись, женка.
— Не ведаю тебя… нет, не ведаю.
Мамон довольно рассмеялся: изрядно же его ордынская хна изменила. Да и годков-то пролетело немало, мудрено признать.
— А я ведь тебя, женка, по всем лесам сыскивал.
Аль не помнишь, как в избе бортника Матвея впервой свиделись?
— Мамон! — дикий, цепенящий ужас обуял Василису. Мамон!.. Тот самый Мамон, от коего она пряталась в лесу, тот самый Мамон, коего люто возненавидел ее Иванушка, тот самый Мамон, кой карал страдников из села Богородского. Страшный, жестокий человек!.. Да он же ныне на Москве в катах ходит — и как сразу не признала! — топором головы рубит. Зверь, палач!
— Не пужайсь, не пужайсь, женка. Мы с тобой, чай, сосельнички, хе. Полюбовно поладим. Денежки, сказываю, надобны. Пусть Иван твой мошной тряхнет. При нем, поди, казна немалая. Пусть за тобой с деньгой придет. Дай ему весточку, да такую, дабы поверил, дабы и малейшего сомнения не закралось. Могу и подсказать, чтоб голову не ломала. Пусть посыльный напомнит твоему Ивану, как впервые, с ним ты встретилась. Где, в какую пору, да какие слова друг другу сказывали. Тут уж не усомнится и непременно выкупит тебя. На Москву же Ивана мой посыльный проведет и вспять без порухи отправит. Дело-то доброе, женка. Мне — денежки, тебе — муженек, хе.
Василиса смотрела на Мамона, слушала его вкрадчивую речь и не могла избавиться от страха, который сковал ее руки, ноги, горло, заледенил душу. Сжалась в комок.
— Ты чего, женка?.. Я тебя хочу к Ивану вернуть, а ты волком зыркаешь.
— Не верю тебе.
— Напрасно, женка. Ради чего ж я тебя от Малея выкрал? Блуд сотворить, телесами твоими потешиться? Нет, женка. Еще б в избе Фетиньи натешился… Деньги нужны, сказываю! Дай Ивану весть — и будешь с ним. Добрд тебе хочу.
— Не верю, — вновь глухо повторила Василиса. — Добром ты никогда не славился, Мамон Ерофеич. И на селе злей тебя не было, и на Москве Малютой провеличали. Худое замыслил, не дам весточки.
— Дашь, женка! — повысил голос Мамон. — Еще как дашь… О сынке не забудь. Ныне и он у меня в капкане.
— Где он, что с ним? — вскочила с лавки Василиса.
— Коль поладим, завтра же доставлю. А коль заупрямишься, без чада будешь. Жил раб божий Никитка — и нету!
— Зверь, кат!
— Остынь, женка. Некуда тебе деваться. Сказывай — с чем идти к Ивашке? А не то ты меня ведаешь, мигом в Пыточную сволоку. Войди в разум, чадо свое пожалей…
Долго назидал, долго увещевал, но глаза Василисы оставались враждебными. Не деньги ему нужны, а сам Болотников. Заманить надумал, заманить коварно и подло, заманить и убить. Уж лучше самой пойти на погибель. Ни под какой пыткой не поможет она врагам ее Иванушки… Чадо… Что этот душегуб говорит? Господи, что он говорит! Станет истязать Никитку на ее глазах. Сечь кнутом, жечь на огне… Что он говорит, господи?! Дай силы!
Глава 16
Матвей Аничкин
Крик. Пронзительный жуткий…
За стеной пытали. Жестоко. Подвесив на дыбу, палили огнем, ломали ребра, увечили. Стоны, хрипы, душераздирающие вопли.
Пыточная!
Холодно, темно, сыро. Тяжелые ржавые цепи повисли на теле, ноги стянуты деревянными колодками.
Мрачно, одиноко.
Узник шевельнулся, звякнул цепями.
Тяжелые, гулкие шаги. Нудный скрип железной решетки. Пляшущий багровый свет факела.
Двое стрельцов вталкивают рослого чернявого преступника в разодранной рубахе, приковывают к стене.
— Попался-таки, Матвейка, — голос стрельца злой, грубый. — У-у, пес! — пинает преступника тяжелыми сапогами.
Другой из стрельцов наотмашь бьет кулаком Матвея по лицу. Уходят. Матвей Аничкин молча утирает рукавом кровавые губы.
— За что заточили, детинушка? — спрашивает сосед-узник.
— За дело, — коротко отзывается Аничкин. Ему не хочется говорить. На душе безутешная горечь. Прощай, волюшка! Смерти не страшился. Сожалел о том, что не довелось дожить до той поры, когда Болотников возьмет Москву и вместе с новым царем установит на Руси праведную жизнь. Сколь об этом грезилось!
Все последние дни Аничкин сновал по тяглым слободам, оглашал «листы» Болотникова, звал ремесленный люд подняться на царя и бояр. Тяглецы внимали охотно, взбудораженные дерзкими горячими словами, кричали: стоять за Болотникова! Дело дошло до того, что Москва снарядила к Ивану Исаевичу посольство. Аничкин радовался: не зря бегал по Москве, не зря будоражил посад. Но когда посольство вернулось от Большого воеводы, Москва заметно утихла. Матвей вновь засновал по слободам, и вновь всколыхнулась столица. Но тут во всю мочь грянула по Москве анафема, грянула страшно, наводя ужас на христолюбивый народ. Москва сникла, повалила в храмы.
«Хитер же Шубник! — думал Аничкин. — Чего только не затеет, дабы подорвать силы Ивана Исаевича».
И Аничкин решился на отчаянный шаг. Хватит Шубнику царствовать и злые дела творить. Облачился в стрелецкий кафтан и проник в Кремль. Проведал: Шуйский едва ли не каждую обедню стоит в Успенском соборе. В один из царских выходов, когда Шуйский в окружении архиереев и бояр шествовал ко храму, Матвей выскочил из толпы служилых и метнулся к царю. Однако Шуйского достичь не успел: царя заслонили пятеро стрельцов. Двоих зарубил саблей, одного повалил ножом.
В тот же час Матвей оказался в застенке. По углам Пыточной в железных поставцах горели факелы. На широких приземистых лавках — ременные кнуты из сыромятной кожи и жильные плети, гибкие батоги и хлесткие нагайки, железные хомуты и длинные клещи, кольца, крюки и пыточные колоды. Подле горна, с раскаленными добела углями, стоит кадь с рассолом. Посреди Пыточной — дыба, забрызганная кровью.
Расспросные речи вел сам дьяк Разбойного приказа Левонтий Петрович. Сидел за длинным столом, откинувшись в кресло с пузатыми ножками. Дьяк высок и худощав, лицо блеклое, изможденное. Дьяк устал, устал от бессонных ночей и пыток, устал от свиста кнута и хруста выворачиваемых дыбными ремнями рук, от крови и запаха поджаренной человечьей кожи, от стонов и криков узников. Лихолетье! Крамолой исходила Москва, крамолой бушевала Русь. Разбойный приказ задыхался от воровских дел: на Москве не хватало темниц для бунташных людей. Тяжко, тяжко дьяку Разбойного приказа.
Подле Левонтия Петровича двое подъячих в темных долгополых сукманах. На столе — свечи в медных шандалах, гусиные перья, листы бумаги, оловянные черниленки.
На дубовом стульце, возле дымящейся жаратки, сидит кат — дюжий, косматый; грузные, широкопалые руки хищны и нетерпеливы. Дьяк скользнул тусклым взглядом по кату. Этого, кажись, никакая усталость не берет. Лют! На пытку как на праздник ходит.