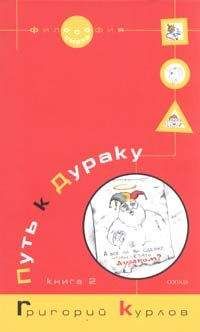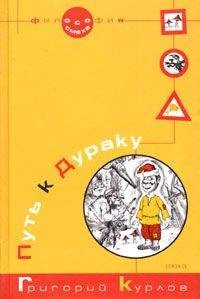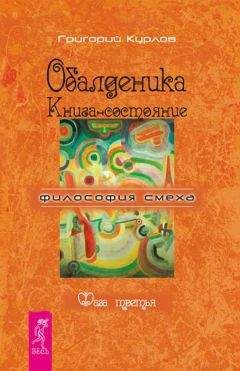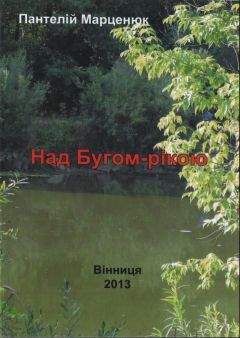Антон Хижняк - Сквозь столетие (книга 1)
— Я слыхал, что луганская организация помогла ему уйти от жандармов и перебраться за границу, а больше ничего о нем не знаю.
— Может, удастся встретиться, и вы еще молоды, да и он не старик. Я почему-то верю в это, мне приходилось встречаться во Франции с людьми, которых я никогда и не думала там встретить. Теперь я вам расскажу о нашем старшем санитаре. Ему пятьдесят второй год. Конечно, никто его в армию не мобилизовывал. Он писатель. Все время хотел, чтобы его отправили на фронт корреспондентом, но ему ответили, что не всем редакциям разрешают посылать корреспондентов. И тогда он обманул министерских чиновников и попросил направить его санитаром в наш отряд. Теперь он на фронте, пересылает оттуда свои корреспонденции в редакцию московской газеты «Руские ведомости». Кстати, ему не хотели давать разрешения на пребывание в армии, потому что он был другом моего брата Александра. Когда Сашу арестовали, в его записной книжечке нашли фамилию Серафимович и его адрес, и за это он был осужден на пять лет ссылки в Архангельскую губернию.
— Мария Ильинична! Я же говорил вам, что и мой отец, и брат тоже были сосланы в Архангельскую губернию, — едва сдерживая волнение, произнес Пархом.
Хотя в купе, кроме них, никого не было, но деревянные стены вагона не могли служить надежной бронею — их разговор можно было легко подслушать. Поэтому они разговаривали вполголоса.
— Вот и тут, в санитарном отряде, — продолжала Мария Ильинична, — он не случайно в компании со мной, не только потому, что был другом Саши, — она улыбнулась, — а еще и потому, что я тоже была в ссылке в Вологодской губернии. Как говорят, мы с вами друзья по несчастью.
— Так вы тоже были в ссылке? — не успевал удивляться Пархом.
— Довелось, Пархом Никитович. По многим городам путешествовала. И на Украине бывала не раз, да еще и в киевской тюрьме полгода просидела в девятьсот четвертом году. Кажется, обо всем переговорили, Пархом Никитович. А вот и Александр Серафимович, — услышав стук в дверь, сказала она, — знаю его привычку стучать. Прошу к нам, — кивнула она Серафимовичу, когда тот вошел в купе. — Заходите, заходите, Александр Серафимович, и прикройте дверь. Наш писатель. Под произведениями подпись: Александр Серафимович. Это его псевдоним. А это — вы ведь две недели работаете вместе, но еще не знакомы, — это Пархом Гамай, большевик.
Серафимович недоверчиво посмотрел сначала на Марию Ильиничну, а потом на Пархома.
— Не удивляйтесь, Александр Серафимович. Товарищ Гамай — настоящий большевик. Я убедилась в этом. Таким образом, прошу любить и жаловать. Верю, что нам еще посчастливится увидеться с Пархомом Никитовичем.
— Согласен! Я хочу встретиться, только в лучшей обстановке, — густым басом пророкотал Александр Серафимович. — Я, Мария Ильинична, не мог и подумать, что этот наш пациент — большевик! Склоняюсь перед партией, которая так много людей привлекла на свою сторону глубокой верой в лучшее будущее. Кстати, чтобы не забыть: когда уже тронулся наш поезд, подбежала ваша любимица, та светлоглазая девчушка, ткнула мне эту бумажку и попросила передать ее вам.
— О! Ганка! Ганнуся! Моя хорошая! Не забыла. Это, Пархом Никитович, та наша маленькая санитарочка, что сливала вам воду на руки. Помните? Она простудилась, и я лечила ее, мы предупредили воспаление легких, а потом она стала помогать нам. У нее есть тетя Мария. Как ее называли соседки, Александр Серафимович?
— Прекрасным словом — вуйна! Так галичане почтительно называют пожилых женщин.
— Вуйна Мария, — продолжала Мария Ильинична, — очень горячо благодарила за лечение и приглашала в гости после войны. Я заверила ее, что, как только появится возможность, приеду. Вот она и пишет, — посмотрела в листочек, — чтобы мы непременно приехали. Написано, конечно, рукой Ганнуси, потому что вуйна Мария неграмотная.
— Симпатичная женщина, — с теплотой в голосе отозвался Александр Серафимович, — ее еще называли газдыня, что означает хорошая, трудолюбивая хозяйка.
— Мария Ильинична! Я помню девочку Ганку, как назвал эту светлоглазую девчушку Александр Серафимович. Она однажды начала мне рассказывать, как вы лечили ее тетю, вуйну Марию, — сказал Пархом.
— Да, лечила мою тезку, Марию Петровну. Вы же знаете, какая обстановка была в нашем госпитале. Ни одной свободной минуты. Тысячи раненых. Но мы и коршевским крестьянам не отказывали в помощи. Бедные они люди, кто им поможет. Однажды прибегает эта самая Ганнуся и плачет: «Придите, тетя Мария, заболела вуйна Мария, со мной пришел вуйко Иван, стоит на улице, плачет». Пошла я к ним. Фамилию их сейчас скажу, — посмотрела в записную книжку, — Витенки они, а больная — Мария Петровна, сорока шести лет. Измерила температуру — тридцать девять. Подозрение на тиф. Посоветовалась с нашим врачом. Принесла порошки, стала делать уколы. Через несколько дней температура снизилась, моя больная стала спать нормально. Я ежедневно утром и вечером наведывалась к ним. А сопровождал меня мой кабальеро.
— Ходил, сопровождал, — погладил свои щетинистые усы Александр Серафимович.
— И Ганнуся всегда бегала с нами. Когда шли впервые, тащила меня за руку и все время приговаривала: «Быстрее! Быстрее! Очень прошу вас, пани!» Я рада, что спасла Марию Петровну. Она уже окончательно выздоровела. Видите, Пархом Никитович, какой я эскулап! Мне приятно, что мы оставим тут хорошее воспоминание о нашей боевой московской медицине.
— И добавьте, — вмешался в разговор Александр Серафимович, — боевой добровольной, а не царской.
— Согласна с вами, Александр Серафимович, — поклонилась ему Мария Ильинична и глубоко вздохнула. — Добровольная! Хотя нам и не очень содействовали господа начальники из царского ведомства, но мы спасли сотни людей.
— Берите выше! — пробасил Александр Серафимович. — Тысячи! Я, яко ваш старшой, гм, гм, математик, веду точный учет, — показал он на тетради, лежавшие на столике, — и знаю все цифры. Тысяча! Тысячи мы спасли, дорогая Мария Ильинична. А что дальше будет, увидим… Подъезжаем к Льву, — сказал он, вынимая из кармана полинялой гимнастерки часы, — если все будет благополучно, через двадцать минут будем во Львове… Рад, рад, дорогой наш пациент. Скажу от чистого сердца, — тепло посмотрел он из-под своих торчащих густых бровей на Пархома, — вы мне нравитесь.
— И мне вы нравитесь. Таких энергичных и смелых людей любит Владимир Ильич. При первой же встрече расскажу ему о вас, Пархом Никитович, и о горловской битве. Александр Серафимович, а наш пациент — человек с юмором, он так красочно рассказывал о шахтере, который дискутировал с меньшевиком. Я ужасно смеялась…
Александр Серафимович приподнял брови и посмотрел на Пархома.
— Шахтер дискутировал с меньшевиком?
— Расскажите, Пархом Никитович, — попросила Мария Ильинична, — о шахтере Максиме.
— Расскажу… Александр Серафимович, вам, как писателю, надо бы познакомиться с ним, поговорить. У него очень образная речь, пересыпанная прибаутками и пословицами. Он еще совсем молодой человек. Когда я с ним прощался, ему шел двадцать первый год. Мобилизовали его в армию по призыву. Теперь ему уже двадцать пятый год. А дискуссия проходила так. Услышал этот молодой шахтарчук, что меньшевики вредят большевикам, не туда клонят, куда надо. Это нам было известно. Когда в пятом году к нам обратились за помощью товарищи из Горловки, то меньшевики, пролезшие в Юзовский Совет рабочих депутатов, высказывались против посылки боевой дружины в Горловку. Мы-то поехали, но нас было очень мало. И после пятого года меньшевики все время ставили нам подножку. И то не так, и того не нужно делать. Одним словом, как сказал коногон Максим, сволота. Не раз он слышал о меньшевистских проделках, и ему захотелось по-своему, по-шахтерски подискутировать с ними. Проследил, что вечерами они собирались на окраине Юзовки. Дождался, пока начали расходиться по домам, и пошел следом за одним из них. И вот, когда тот зашел во двор, коногон набросился на него как ястреб, заткнул ему рот тряпкой, снял, простите еще раз, Мария Ильинична, штаны и подштанники, прижал меньшевика коленом к земле, а потом палкой по заднице. Так отдубасил его, что меньшевик еще долго помнить будет.
— Вот молодец! — воскликнул Александр Серафимович.
— Положил его на землю, бил и приговаривал: «Это тебе от комитета! Это — от Юзовки! А это от меня!»
— А что меньшевик? Как он — дискутировал? — засмеялся Александр Серафимович.
— А он вертелся как уж, бормотал что-то. А Максим пригрозил, сказал: «Молчи! И сегодня, и завтра, и никогда никому не говори, потому что если узнаю, так ноги тебе оторву. Ей-богу, оторву и собакам выброшу».
— И меньшевик никому не сказал?
— Никому.
— Побоялся, что Максим ноги оторвет? — захохотал Александр Серафимович. — Скажите, как фамилия этого смельчака? — Вытащил блокнот. — Запишу для памяти. Интересный факт!