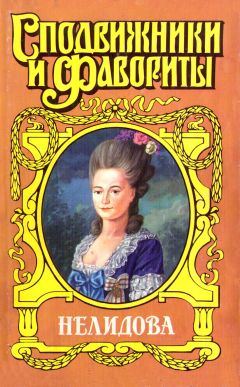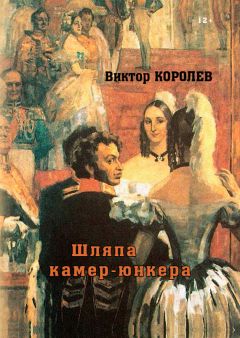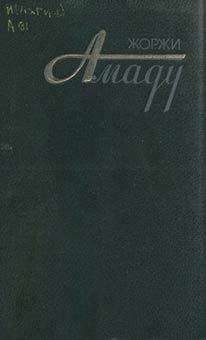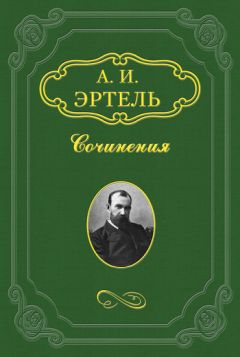Алла Панова - Миг власти московского князя
Особенно горько становилось ему от своего одиночества после посещения дома посадника, где Егору Тимофеевичу всегда были рады. Радость эта была искренней, он чувствовал это и бывал у Василия Алексича чуть ли не ежедневно. Тот тоже был рад завязавшейся между ними дружбе, поскольку, как и воевода, остро чувствовал, что не за горами то время, когда, несмотря на все свои старания, он окажется не у дел.
Этой болезненной темы оба старательно избегали, хоть нет–нет, а тень обиды на молодых княжеских бояр проскальзывала в разговорах. Да и как было не коснуться этого больного вопроса, когда о нем одним своим присутствием все время напоминал Василько, который под разными предлогами слишком часто наведывался в дом посадника. «Как ни придешь — он уж здесь или следом является, — всякий раз думал воевода, видя статную фигуру сотника на крылечке или в горнице, — и ведь ничего не скажешь, вроде и с делом пожаловал». Посадник давно уж догадался, в чем причина таких частых посещений, но вида не показывал.
«Ни дать ни взять, князь умышленно Васильку эти поручения придумывает, чтоб он зазнобу свою повидал да, может, на разговор с ее батюшкой наконец-то решился», — думал воевода, искоса поглядывая, как сотник, краснея и бледнея, выполняет очередной «наказ» князя, а потом, задержавшись на мгновение-другое в дверях, будто вспоминая, не забыл ли сделать что‑то еще, «вспомнив», стремительно кидается наружу.
— Вот ведь какая незадача, — посетовал как‑то посадник, глядя вслед скрывшемуся сотнику, — и когда только у него язык развяжется?
— В сече такого храбреца, как Василько, еще надо поискать, а в делах сердечных — вишь, не отважен, — усмехнулся воевода. — Это когда еще мы подметили, что он от дочки твоей глаз отвести не может, а уж весна кончается, а он, сердечный, все никак не откроется.
— Я и то думал, что после Великого поста на свадьбе гулять будем, — тоже с усмешкой проговорил посадник и стал расставлять шахматные фигуры.
— Видно, и князь усы в меду пенном обмочить хочет, — усаживаясь поудобнее, проговорил воевода, — да вот только у нашего боярина молодого думы другие. А ты‑то, Василь Алексич, готов в дом такого непутевого да нерешительного принять? — поинтересовался он с ехидной усмешкой.
— Так ведь сам говоришь, что в сече — храбрец-удалец, а то, что отца избранницы своей так боится, что и заговорить о деле сердечном не решается, так, может, это и к лучшему.
— Значит, надобно подумать о сватах, пусть‑ка они свое дело сделают, — хмыкнул воевода и снова поинтересовался: — Мы‑то, старики, все видим, а вот как зазноба его, согласится ли выйти за такого неторопливого?
— Кто ж ее спрашивать‑то будет, — хохотнул посадник и, отсмеявшись, сказал очень серьезно: — Я, Тимофеич, дочку свою неволить бы ни в жизнь не стал. Сам знаешь, что ей довелось в жизни изведать. — Он отодвинул в сторону шахматы, потупил на мгновение голову, а когда поднял ее, воевода заметил, как что‑то блеснуло у него в уголках глаз. Сморгнув, посадник продолжил медленно, словно с трудом подбирая слова: — Я уж тебе откроюсь, думал, что уйдет Вера от нас.
— Ты что!
— Уйдет. Да–да. Уж больно набожной выросла. Такой, что и меня порой в смущение вводит словами своими. Молится за всех нас, грешных. Мало постов установленных, так она себе еще послушаний напридумывала. Говорила, мол, раз Господь ее в живых оставил, значит, должна она ему свою жизнь посвятить. В обитель собиралась. В черницы. — Он замолчал, а потом, вздохнув, продолжил: — Сколько я с ней беседы ни вел, ни отговаривал — она ни в какую, все одно твердила. Уставится в одну точку и словно неживая — призывает Он, мол, ее, и все тут.
— Так, может, жена твоя в том виной. Счастье твое — дочке глаза кололо, о матери напоминало.
— Кабы так! — привычно возразил посадник. — Дочка ведь с малолетства к Настасье привязалась, мамкой зовет. Да и знает она, что свою Оленьку, жену свою первую, мученическую смерть вместе с детьми принявшую, не забуду я никогда. Память о ней и Настя бережет. И сыны мои малолетние о братьях погибших тоже знают и за упокой страстотерпцев молятся. Я уж голову ломал, как дочку от шага этого отвратить. Может, грешно так говорить, но ничего с собой поделать не мог, ведь ежели б ушла она в обитель, считай, что похоронила себя заживо. Сколько ни говорил, все одно твердила.
— А теперь?
— Я‑то сразу не заметил, Настасья подсказала, что как увидит Вера Василька, так румянцем ее личико бледное покрывается. Смеяться, сердешная, чаще стала, в окошко поглядывать. Даже колты, что ей дарил, из короба достала.
— Глянулся наш сотник, значит.
— Почему ж не глянуться. Он муж видный и лицом пригож. Вот сердечко то у Веруньки и начало оттаивать. Уж мы с Настасьей боялись, кабы не спугнул молодец… А он будто сам почувствовал, сколь хрупкий цветок в его руках оказался. Может, потому и сейчас не спешит.
— А она‑то, как думаешь, готова под венец пойти, далеко ли мысли об обители запрятаны?
— Кто ж об этом знает? Может, только сам Господь, что ее вразумил… Настасья никогда с дочкой о том не говорила, а тут как почувствовала, что она другую дорогу в жизни увидала, кроме той, что за монастырские стены ведет, вот и напомнила о долге, что каждой женщине завещан. Говорит, мол, твоя мать умерла, а ведь в тебе кровь ее течет больше ни в ком ее частицы нет, только, мол, в тебе. Ты уйдешь, и последняя кровинушка материнская вместе с тобой сгинет. Надо, мол, чтоб не только в небесах Олюшке место было, но чтоб и на грешной земле в ком‑то она жить продолжала. Вера, как мне Настасья сказывала, притихла поначалу, потом стала говорить, мол, все это суеверия, ересь, но, видать, успокоилась… Намедни говорит, во мне, мол, кровь матери течет. Я тут и понял, что в точку слова Настасьины угодили. Так что, думаю, теперь не о святой обители помыслы ее, а об обители мирской, о семье, о муже, о чадах. Вот так‑то, Егор Тимофеич. Поживем — увидим, как дальше‑то дело сладится.
— Что же ждать? Может, самое время Васильку сватов прислать, пока не раздумала, твоя дочка‑то? Ведь нынче доброхотов много развелось. Она, как я заметил, ни одной службы не пропускает, а среди прихожан, почитай, каждый и благожелатель, и утешитель. Наверняка ведь найдутся добрые души, укорят, что помыслы поменяла, что не о святом, а о грешном думать стала — а уж от разговоров таких недалеко от обители.
— Может, Тимофеич, ты и прав, — согласился посадник.
— А раз так, займусь‑ка я этим делом, пока не стала Вера наша Христовой невестой, — проговорил воевода деловито и, хитро усмехнувшись, закончил: — Уж больно, Василь Алексич, хочется на пиру веселом погулять!
На следующий день спозаранку воевода вызвал к себе Василька, намериваясь говорить с ним строго и по–отечески. Сотник не замешкался, и еще не расчирикались под теплыми солнечными лучами птахи, свившие гнездо под крышей воеводской избы, как он уже предстал пред Егором Тимофеевичем. Тот с удивлением увидел сверкающее, словно начищенный котел, румяное лицо Василька, хотел было начать разговор, но званый гость опередил его.
— С тобой первым, Егор Тимофеич, радостью своей поделюсь, — выпалил сотник голосом, задыхающимся то ли от охватывающего его счастья, то ли от спешки, с которой явился на зов воеводы.
Хозяин поднял бровь, уже понимая, о чем может идти речь.
— Говорил я давеча с Верой, с дочкой Василь Алексича, — уточнил он для порядка, будто не понимая, что о его тайной любви к этой девушке знало все княжеское окружение, — согласная она венчаться! Стать супругой мне! Я всю ночь глаз не сомкнул, только об этом и думал!
— Вот и ладно, вот и хорошо, — стал успокаивать воевода метавшегося по горнице возбужденного сотника.
— Согласна! Ты понимаешь, Егор Тимофеич! — говорил тот, сверкая синими, как васильки, глазами. — Говорит, это, мол, добрый знак, что имена у нас с отцом схожие. Верит, дескать, мне, как ему. Надеется, что такой же, как он, опорой для нее буду.
Руки сотника двигались будто сами по себе: то хватались за непокрытую русоволосую голову, то теребили ворот рубахи, то безжизненно опускались на рукоять меча, словно это была последняя опора в его жизни. Воевода с удивлением наблюдал за этими нервными движениями всегда спокойного и невозмутимого Василька, которого трудно было вывести из себя, а теперь представшего в совершенно необычной для себя роли.
— Согласная! — повторял тот, опять взмахивая руками.
— Слышу! Слышу я, — тем же спокойным тоном говорил воевода и, пытаясь внести в разговор деловую нотку, предложил: — Ты садись‑ка на лавку, Василек. Обсудим‑ка, что далее делать будем. Кого сватами к посаднику пошлем, какие подарки ему подарим, ну и, наконец, когда за столы пировать сядем.
От такого делового, приземленного подхода к его возвышенным чувствам, его неземной любви к ангельскому созданию сотник, опешив и открыв удивленно рот, опустился на указанное воеводой место на лавке. Так с открытым ртом он и сидел некоторое время, с трудом внимая словам воеводы и, кажется, совсем не понимая, о чем тот ведет речь.