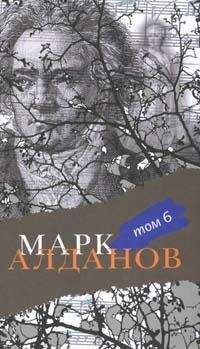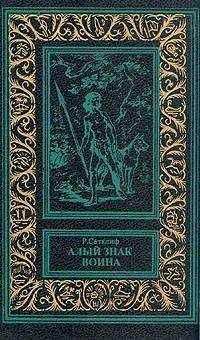Розмэри Сатклифф - Меч на закате
Наконец молнии перестали бить непрерывно, и гром уже не следовал так быстро за ними по пятам; его похожий на удары хлыста треск, чуть не разрывавший перепонки у нас в ушах, понемногу заглох, превратившись в рокот огромных барабанов, пульсирующий и отдающийся эхом среди темных ущелий. И я понял, что по крайней мере на ближайшее время пик бури остался позади — то есть позади в том, что касалось грома, потому что вслед за громом пришли ветер и дождь. Мы наконец успокоили лошадей; ветер и дождь были им понятны, в то время как гром — это то, чего не может понять ни одна лошадь, да и ни один человек тоже; я думаю, именно поэтому мы всегда приписывали его нашим самым могущественным и самым сердитым богам.
Вскоре навес улетел, сорванный ветром, словно дырявый парус. Я заставил Гуэнхумару спрятаться под повозку, и через несколько мгновений — после того как повод Сигнуса был привязан к ветке растущей неподалеку ольхи — ютился рядом с ней, положив руку на мощный, холодный от дождя загривок Кабаля и пытаясь нашими телами защитить ее от захлестывавших сбоку колючих дождевых струй; а в долине ревел ветер, и влагу несло мимо сплошной стеной, и эта серая стелющаяся пелена, затягивающая небытием даже дальнюю сторону узкого ущелья, разбивалась о редкий стонущий лесок, вымачивая его насквозь.
И пока мы сидели там, под повозкой, в течение каких-то ста ударов сердца каждая высохшая за лето канавка среди верещатника превратилась в стремительный поток мутной, как пиво, воды, который несся по камням, вылетал из-под корней вереска и клокоча бросался вниз, чтобы влиться в небольшой ручей, уже начинавший выходить из берегов; и повсюду вокруг нас в холодном после грозы воздухе поднимался запах сырой, освеженной земли, пряный, как аромат болотного мирта, нагретого солнцем, — а потом его растворял серый потоп, который смывал его обратно в землю. Когда дождь начал затихать, а свет — возвращаться, день уже клонился к вечеру; но нам оставалось еще проделать шесть или семь миль, а поскольку у меня в ушах не смолкал предостерегающий рев вздувшегося ручья, я не осмеливался ждать дальше.
Гуэнхумара была более осунувшейся и бледной, чем когда бы то ни было, а ее глаза, огромные и почти черные, казалось, заслоняли собой все лицо. И когда возница впряг мулов в повозку, мне пришлось только что не поднимать ее на ноги.
— Гуэнхумара, что-то не так?
Она покачала головой.
— Я ненавижу гром, я всегда ненавидела гром. Больше ничего.
Фарик, который стоял рядом, положив руку на шею своей лошади, быстро обернулся и взглянул на сестру; его прямые черные брови почти сошлись на переносице.
— Тогда я впервые об этом слышу. Ты, должно быть, изменилась с тех пор, как стояла на крыше коровника, чтобы быть поближе к буре, пока Бланид вопила на тебя снизу, как черная курица.
— Да, я изменилась, — согласилась Гуэнхумара. — Это потому, что я старею, — она обернулась ко мне, собирая промокшую одежду в складки, словно вдруг заметила, как она липнет к ее раздувшемуся животу. — Артос, возьми меня с собой на Сигнуса. Только… только больше не в повозку.
Так что я посадил ее перед собой, накинув на плечи жеребца промокший овчинный потник, чтобы ей было мягче ехать, и почувствовал, как жестко и напряженно она сидит у сгиба моего левого локтя. Я отдал вознице приказ следовать за нами, оставил с ним двух верховых из патруля, и мы снова пустились в путь.
Твид, внизу и слева от нас, ревел, как стадо быков. По мере того как буря откатывалась дальше, в темное сердце Маннана, небо прояснялось, и когда мы обогнули стену ущелья и спустились сквозь заросли орешника к ручью, который стекал с вересковых нагорий и вливался в реку, сквозь клочья редеющих грозовых туч уже начала проступать вечерняя синева. Но громкий рев воды предупредил нас о том, чего нам следует ожидать, еще до того, как мы увидели сам ручей. Дальше к югу буря, должно быть, разразилась даже с большей яростью, чем та, которую пришлось испытать нам, и ручей несся вниз клокочущим, вздувшимся потоком мутной воды. Он разлился далеко на оба берега, подмывая корни орешника, закручиваясь пенистыми водоворотами над красной глиной ниже по склону и унося прочь огромные пучки травы и булыжники. Брода совершенно не было видно; его могло даже смыть потоком; в ручье плыли кусты, корни деревьев и комья земли, а в тот момент, когда мы в ужасе остановились у края воды, мимо нас пронесло тушу молодой косули, которая раскачивалась и подпрыгивала, словно бурдюк с вином в полосе прибоя.
Фарик начал действовать первым, и, как обычно, его действия были чистейшим безрассудством.
— Что ж, торчать тут всю ночь — перспектива не из веселых, — заявил он и направил свою лошадь прямо в стремительный поток воды, мчащийся над затопленным берегом.
— Не будь глупцом, парень. Это смерть! — завопил я, пытаясь вернуть его обратно.
Бурное течение подхватило ноги его лошади, заржавшей от внезапного ужаса, и едва не утащило ее за собой на середину ручья. Несколько жутких мгновений она боролась с течением, а потом под громкий плеск взбиваемой копытами воды, скользя и оступаясь, снова выбралась на твердую землю. Я открыл было рот, чтобы сказать своему брату по браку несколько ласковых слов, но в этот момент у Гуэнхумары вырвался слабый вздох, почти стон, подавленный еще до того, как он успел выйти наружу, и я почувствовал, что она конвульсивно содрогнулась, словно хотела поджать колени к животу, как бывает при судорогах. И, глянув вниз, увидел, что все ее лицо сжалось и исказилось, крошечное в тени промокшего капюшона ее плаща. Меня обожгло страхом.
— Что такое… Гуэнхумара? Это ребенок?
Она медленно и осторожно расправила лицо, как расправляют сжатый кулак, и с долгим вздохом открыла глаза.
— Да, ребенок. Сейчас мне лучше — до следующего раза. Прости, Артос.
— О Боже, — простонал я. — Что нам теперь делать?
И я знаю, что чуть не завыл, как пес, от охватившего меня чувства полной беспомощности. Могло пройти много часов, прежде чем половодье спадет; если бы мы попытались построить хоть какой-то мост, вырывая молодые кусты орешника и набрасывая их поперек ручья, для этого тоже потребовалось бы время; и даже если бы нам все удалось, наш собственный Лошадиный Ручей, в таком же состоянии, преградил бы нам путь в Тримонтиум. А между тем у Гуэнхумары начались роды.
— Как ты думаешь, сколько это продлится? — спросил я у нее. Остальные, по большей части спешившись, исследовали берег.
— Не знаю, я никогда раньше не рожала… думаю, это будет не очень долго… о, но мне уже так больно, Артос… я не знала, что будет настолько больно, — она внезапно замолчала, быстро втянув в себя воздух, и я снова почувствовал, как напрягается ее тело, а колени судорожно и конвульсивно подтягиваются вверх. Я крепко прижал ее к себе и держал, пока схватка не окончилась. Потом она торопливо заговорила снова:
— Артос, найди мне укрытие… какую-нибудь впадину среди кустов и подстели мне самый сухой потник, который сможешь отыскать, чтобы ребенок не лежал, как ягненок, скинутый в слякоть…
— Нет…, — глупо начал я.
— Нет, послушай, потому что у нас нет выбора. Я сказала тебе, что знаю, что делать. Дай мне нож, чтобы отделить жизнь ребенка от моей, и я прекрасно справлюсь, если ты приглядишь, чтобы ничто не приблизилось ко мне из леса, пока я буду… занята.
Но внезапно я понял, что тоже знаю, что надо делать, и, не дожидаясь, пока она закончит говорить, развернул Сигнуса к полузатерянной пастушьей тропке, которая вела от брода к холмам.
— Я знаю лучший путь. Продержись еще немного, сердце мое, и у тебя будет и более надежное убежище, чем сырая яма в земле, и женщина, которая тебе поможет.
— Артос, я не могу… я не смогу долго выдержать езду на лошади.
— Совсем немного, — попросил я. — Потерпи немного, Гуэнхумара, — и крикнул Фарику и командиру патруля: — Фарик, слушай, я отвезу Гуэнхумару в деревню Друима Дху. Двое из вас поедут со мной, а остальные пусть подождут, пока их догонит повозка, и переправятся вместе с ней, когда спадет вода. Кабаля оставьте с собой.
— Но ты никогда там не был, — Фарик направил лошадь вверх, на бровку затопленной дороги, и остановил ее рядом с моей.
— Был один раз — шесть или семь лет назад. С тех пор я несколько раз проезжал рядом во время охоты.
— И ты сможешь найти ее снова?
— Даст Бог, я найду ее снова, — отозвался я.
Обрывки облаков плыли почти над самыми холмами в прощальном неистовом свете угасающего дня, слабое сияние промокшего желтого заката било мне в глаза, а Гуэнхумара мертвым грузом висела у меня на левой руке, когда я, поднявшись на последний заросший вереском гребень, на мгновение остановился и с почти болезненным облегчением посмотрел в неглубокую высокогорную долину, которую однажды видел раньше.
Но родная долина Друима Дху не была тем мирным местом, каким она показалась мне в тот, другой раз. И здесь, как и везде, мелкий ручеек, журчавший над своим ложем из пятнистых, как форели, камней, взбесился и превратился в ревущий поток; он вырвался из своего русла и проложил новое, которое углублялось и расширялось у меня на глазах, пока я направлял Сигнуса по спускающейся вниз тропе; струи мутной воды отрывали огромные куски берега и расползались все шире и шире, бурля и закручиваясь водоворотами, которые были уже в опасной близости от небольшого скопления торфяных хижин, укрытых за терновой изгородью. По всей неглубокой чаше долины виднелись люди, которые пытались согнать мычащий, перепуганный скот на более высокие участки земли, пока другие, и среди них женщины, стоя по пояс в воде, тщились сдвинуть с места вырванные с корнем кусты и разные обломки, преградившие истинное русло ручья. Сквозь рев воды до нас долетали их крики и лай пастушьих псов, слабые, пронзительные и отчаянные; они донеслись даже до Гуэнхумары, и она повернула голову, чтобы взглянуть на расстилающуюся перед нами долину.