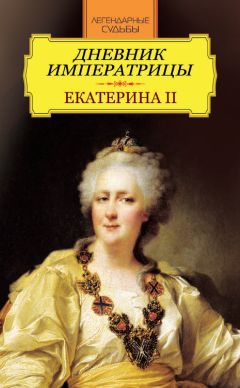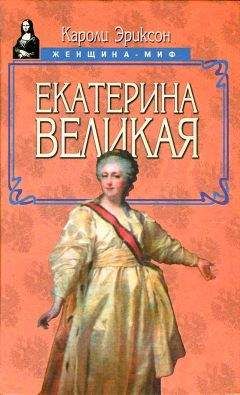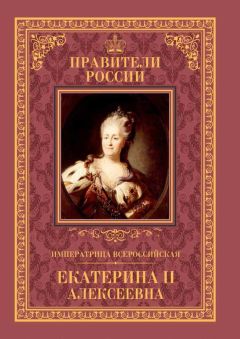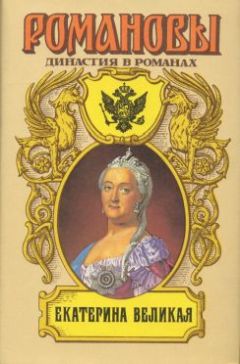Вадим Полуян - Юрий Звенигородский
В этот вечер в Столовой палате княжеская чета устроила не вечерю, а пиршество. Анастасия не меньше мужа радовалась неуспеху Витовта с королевской короной.
— Так ему, ненасытному честолюбцу! Так ему, неуёмному захватчику! — приговаривала она.
Почивать удалились поздно. Долго не могли заснуть, тревожимые все-таки беспросветным будущим: Витовт остается Витовтом, дочка его и бояре московские будут и далее тянуть с третейским судом. Где же выход?
Дабы отвлечься от тягостных рассуждений, Юрий Дмитрич спросил:
— Чем закончил Морозов? Как сложилась супружество Петра и Февронии?
— И хорошо, и плохо, — оживилась княгиня. — Умер князь Павел. Муромский стол занял Петр. Однако бояре не хотели видеть княгиню в Февронии, жен своих ради: не служить же боярыням дочери и сестре древолазца! Пытались оклеветать — безуспешно. Неистово и бесстыдно заявили Петру: пусть берет добра, сколько хочет, и уйдет, куда хочет, а он женится на другой, благородной. Князь — наотрез. Тогда они начали, как псы, лаяться, ибо каждый в уме своем помышлял о княжеской власти. Петр не выдержал, назвал эту власть помётом и уехал с женой из Мурома.
— Тем все и кончилось? — разочаровался Юрий Дмитрич.
— Нет, — возразила Анастасия. — Вельможи муромские в борьбе за власть перебили друг друга. Муромчане послали за Петром и Февронией. Оба вернулись, княжили справедливо и умерли в один день.
— Так завершается баснословие, — подытожил князь.
— Это истина! — возразила княгиня. — Главное было дальше. Вопреки желанию умерших, их погребли в двух разных гробах, а не в одном, заготовленном при жизни. На следующий день обнаружилось, — оба вместе. Так продолжалось трижды, и вельможи, наконец, уступили: в муромской княжеской усыпальнице теперь стоит один двойной гроб[94]. Ты не заснул ли, мой свет?
Анастасия Юрьевна изготовилась последовать за супругом в царство сна, да шум, голоса и топот испугали ее.
Громче, ближе. Яснее ясного: шли на женскую половину терема. Но отчего мужские шаги?
— Нельзя! Нельзя! — завизжала Васса.
— Бу-бу-бу! — возражал густой голос, не поймешь что.
Княгиня нащупала руку князя, принялась трясти:
— Юрий, встань! Беда!
Села, укрывшись до подбородка покровом. Князь вскочил в белой до пят сорочке, зажег свечу, схватился за меч, что всегда был рядом.
— Эй, кто там? Стража!
Осоловело глядя, возник в двери Ивашка Светёныш. Этот слуга на сей раз изменил обычной своей молчаливости:
— Витовт помер! — закричал он. — Упал с лошади и помер. Только что прискакал к Елисейке гонец. Сам Лисица ожидает в сенях.
Князь неповинующимися ногами последовал за Светёнышем. При виде главного разведчика, обмотанного повязками после разбойных ран, князь открыл рот, собираясь задать самый важный вопрос, еще не зная, о чем. Лисица опередил господина:
— Новый великий князь в Вильне, на престоле литовском… — начал возглашать он, как бирюч. — Внемли, господине, и возблагодари Господа… Новый литовский великий князь — Свидригайло Ольгердович, твой любительный давний приятель!
6Тихая, гладкая, ничем не колеблемая жизнь в Галицком княжеском тереме вдруг вскипела, будто под ней разожгли огонь. В тот же день, когда Елисей Лисица возвестил смерть Витовта и вокняжение Свидригайлы, Юрий Дмитрич отправил Морозова и Чешка в Москву с грамотой о том, что все прошлые договоры с племянником расторгаются. Вместо толчения воды в ступе он указал два исхода продолжительной распри: или немедленный суд в Орде, или пусть Бог рассудит, то есть — война!
— Не излишне ли резко? — заметил Морозов, когда князь подписывал грамоту.
— Резко, да веско! — проворчал Юрий Дмитрич. И присовокупил: — Устал я от всего этого. Надобен хоть какой-то конец.
По отъезде послов сидели в Крестовой вдвоем с княгиней.
— Всю ночь не могла заснуть, — сетовала бледная Анастасия. — Мысли сражались в голове. Одолевала та, что племянник, как пять лет назад, пошлет войско и мы снова побежим к Нижнему.
Муж возразил:
— Не посмеет. Я за пять лет стал впятеро сильней.
Жена сомневалась:
— Ужели мальчишка отважится сунуть нос в Орду? Там, по разведке Елисея Лисицы, ох как неспокойно. Два татарских хана поднялись против Улу-Махмета. Да еще в половецких степях не прекратилась чума.
Юрий Дмитрич тяжко вздохнул:
— Наше время пришло. Нынче — или судиться, или сражаться. Завтра может быть поздно.
Княгиня подошла к иконе Владычицы, пала пред ней на колени. Князь, опустив голову, продолжал мыслить вслух:
— Силы у меня — через край, а казны — на дне. Одно другого стоит! В Орду же ехать — не с пустыми руками. Где взять серебра и золота? Звенигородские и галицкие купцы, мои дойные коровушки, уже пусты. Вятчане не пожалели для меня силы, грешно покушаться на их богатства. Данило Чешко обещал одолжиться у московских купцов. Да кого он уговорит? Знаю, есть там Ермолины, потомки сурожанина Василия Капицы, прибывшего еще до Донского побоища. Есть Ховрины и Антон Верблюзин. Богат Андрей Шихов, потомок Ивана Шиха. Но, помнится, он всегда ссужал средства покойному государю-братцу Василию, а теперь, стало быть, подсобит его сыну.
Приподняв голову и заметив, что жена молится, князь тихо покинул Крестовую.
Взойдя по узенькой витой лестнице на верх терема, вышел на вислое крыльцо. Оттуда был виден весь Галич. Вдали сияет под солнцем озеро. Улицы звездными лучами сходятся к дубовому кремнику. Местами желтеют скошенные луга. Дома, богатые и бедные, большей частью зажиточные, покоятся в золоте осенних дерев под соломенными, пластяными, а то и чешуйчатыми кровлями. Стены не у многих жилищ темны, чаще желты, ибо недавно ставлены. Князь живо вспомнил, как в горький год, когда он с войском отступал к Нижнему, а московская рать еще шла к Костроме, два татарских отряда врасплох захватили город, месяц свирепствовали, опустошили и Костромскую землю, и Плёс, и Луг. Тогда племянникову приспешнику Андрею Дмитричу пришлось воевать не с братом, а с грабёжниками, которые в конце концов были настигнуты и разбиты в Рязанском княжестве. Теперь к горлу подступил ком: предстоит искать правду у тех же татар. Одно утешало: ордынские князья и царевич разбойничали без ведома великого хана. Улу-Махмет осыпал их укоризнами. Юрию же клянется быть справедливым третейским судьей.
Князь сошел вниз, едва часомер на угловой башне пробил время вечерней трапезы. Любопытно бы знать, какие обеты хан загодя дает шестнадцатилетнему Василию и его боярам. То, что в Литве сейчас властвует не Васильев дед Витовт, а Юрьев друг Свидригайло, позволяло надеяться: вряд ли великий хан, окруженный недругами, захочет видеть на московском столе беспомощного юнца, а не умудренного жизнью мужа.
Княгиня вечеряла молча, погруженная в невеселые думы.
— Что так ненастна, любовь моя? — обратился к ней князь.
Анастасия молвила тихо:
— Не переживу неудачи.
Юрий Дмитрич сказал:
— Видел, как ты молилась. Я в свою очередь хочу обрести несокрушимую твердость в молитве. Завтра отправлюсь в Сторожевскую обитель. Припаду к мощам старца Саввы. Пусть благословит, пусть наставит.
Княгиня кивнула в знак одобрения.
За ночь князь не отдохнул, а промучился в своей постели. Пожалел, что не пошел спать к жене: от нее исходят благотворные токи, погружающие в сладкое небытие. Не помнишь сна, встаешь, как заново родившийся. А тут, предоставленный самому себе, погрязаешь в дурных предчувствиях, в скверных мыслях. Если и забываешься, попадаешь в такую катавасию, что вскакиваешь с криком. То тебя бьют, то низвергают в бездну, то оставляют в тесном загоне с рыкающим диким зверем. Ивашке Светёнышу, почивающему в Передней, дурные вскрики князя всю ночь испортили.
Утром, уже сидя в седле, окруженный охраной Юрий Дмитрич по пути в свой Звенигородский удел тряс тяжелой головой, не замечая осенних лесных красот. Листья казались не золотыми, а ржавыми, небо блеклым, солнце тусклым. На стоянках, даже в справных избах, мерещился гадкий запах. Еда была невкусна, питье не гасило жажды.
В Звенигороде посетил могилу бывшего дядьки Бориса. Раскрошил береженое еще со Христова дня яйцо, возжег у деревянного креста свечку. Не успел отойти, крошки склевали птицы, свеча погасла. Ветрено было на кладбище. Кроны вётел в немой укоризне покачивались, будто бы желая укорить: эх, князь!
Звенигородский княжий терем без Настасьюшки был неуютен и пуст, как во время ее поездки в Москву для обманной встречи с покойным родителем-грешником. Юрий Дмитрич поспешил на гору Сторожу.
Он еще не видел обители без игумена Саввы. Получив горькую весть о кончине старца, не решился покинуть Галич, побоялся: перехватят в пути. Скорбел у себя в Крестовой, отбивая тысячу земных поклонов вместе с княгиней. Теперь удивленные очи его узрели не юную обитель, а возмужавший монастырь. Знал: деятельный игумен при жизни успел воздвигнуть белокаменный собор Рождества Богородицы. Слышал: сторожевский храм послужил образцом Троицкого собора Сергиевой Лавры. А все же воспринял увиденное величие, как неожиданное, неведомое.