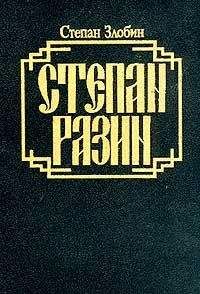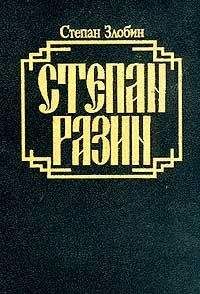Степан Злобин - Степан Разин (Книга 1)
Но Ордын-Нащокин не поддался льстивому слову. Он понимал, что в самом деле творится в душе Алмаза. Даже не посмотрев на него, боярин опять обратился к царю:
– Астраханские, государь, воеводы пишут, что биться с вором не могут, страшатся измены своих стрельцов. Ведь, правду сказать, государь, стрельцы астраханские на три четверти ссылочна сволочь: в какой вине провинился стрелец в Москве или в ближних каких городах – так тотчас же в ссылку его во стрелецкую службу... Куда? Да все в Астрахань. Сей порядок надобно, ваше величество, настрого запретить. Не дело в больших городах скопляти мятежное скопище, а надо рассеивать их по малым острожкам – в Чердынь, в Соликамск, в Великий Устюг, да мало ли и еще куда... А ныне, я мыслю, иного пути искать к истреблению вора. Чего доброго Астрахань от него возметется?!
– Избави боже! – с тревогой воскликнул царь.
– Ведомо то и мне, государь, что стрельцы астраханские ненадежны, – ответил Алмаз. – Да молит боярин Иван Семеныч дать ему тысячи три московских стрельцов для обороны от вора. Мыслю, что надобно дать. С теми стрельцами они и пойдут вору навстречу в море. Стольник Семен Иваныч того не страшится. А Дон от погибельного смятения сбережем!
Слушая этот спор боярина с думным дьяком, царь потерял свой обычный кроткий, спокойный вид, лицо его покраснело, на лбу вздулись жилы, глаза разгорелись. Казалось, что государь способен сейчас ударить кого-нибудь, что-нибудь опрокинуть, разбить. Но он повернулся к иконам, висевшим в углу и освещенным рубиновым светом лампады.
– Господи боже наш! Насылаешь еси испытания на державу твою! – крестясь, произнес царь. – И отколь все сие, вместе с шапкою Мономаха, на голову мне повалилось?! Вьюношем был я еще зеленым – солейный бунт от московской черни терпел... Два года пройти не поспели, как Псков и Новгород возмутились, моих воевод в тюрьму посажали и сами закрылись в стенах от своего государя... И Курск, и Козлов, и Сольвычегодск, и башкирские мятежи, и денежный бунт, когда меня самого за пуговки на кафтане хватали, поносным словом обидели... Государя – поносным словом!.. И палками на меня, как на пса, грозились!.. Теперь в Малорусской Украине смута за смутой и бог весть еще какие напасти!.. Пошто то я должен всю жизнь казнить, и карать, и пытать кнутом и железом, огнем и секирой?! Скажи мне, Лаврентьич, и ты, Алмаз, тоже скажи: али я государей других прежесточе?! Али законы мои неправедней всех? Отколе сие на меня, как божье наказание, хуже египетской язвы?! Ведь я же тишайший из всех государей российских! Тишайший! Мне бы родиться в боярском доме, и в вотчинке жил бы себе, на Москву не казался б... Мир люблю, церковное пение, да семейку мою, да птичью потеху, да добрый стол, хлебосольство... А тут шум, шум, шум!.. И воеводы дались таковы незадачливы, что всего-то страшатся: Корнилка на Прозоровского шлется, тот – на Корнилку. Друг за друга хоронятся... А кого же мне против воров посылать? Ну, кого? Пугаете, как воробья в огороде! И стрельцы-то мол, за воров возметутся, и казаки-то в смуту войдут, и посадские вора-то любят... Знать, то мне лишь одно осталось: дворянское ополчение подымать, самому в руки меч да отправиться в ратный поход на воришку... Срамно вам, державных дел устроители!.. Воровство! Кругом воровство! Разгоню воевод и всех атаманов.
– Золотые слова молвил, ваше величество государь! Давно уже пора до иных воевод добраться! Пущий мятяжный очаг у нас на Дону. А государь-самодержец, вишь ты, мятежную язву целить не властен! Корнилка, удельный князек, самодержавства российского государя и ведать не хочет! От Стенькиной Разина смуты лишь польза была бы державе, когда бы через нее казацкий Дон во покорность и мир пришел, припадя к стопам государя. Вот о чем я пекусь!.. – заговорил царский любимец. – Доколе же станете, ваше величество, терпеть своевольство удельного хана Корнилки?! Не хочет он власти своей отдавать – оттого государевой рати присылки страшится. А пора покориться Дону. Доколе же смуты рассаднику – казачишкам деньги и хлеб посылать за их воровство?!
Ордын-Нащокин на миг умолк и взглянул на царя и на думного дьяка. Оба слушали со вниманием: царь прилежно и любопытно вылавливал новую мысль, а Алмаз клокотал скрытым негодованием.
– Я мыслю разом два дела соделать, – продолжал боярин, – и Стеньку-вора стрелецким войском разбить на Дону, да завести там добрый лад и порядок! – Боярин поймал загоревшийся взгляд царя, понял его как одобрение своих мыслей и дружески обратился к думному дьяку: – Да и ты не стращай государя, Алмаз Иваныч, что от того возгорится мятеж. На мятежников хватит у нас веревок: на Дону и сейчас есть добрые люди, во всем покорные государю... Не только в Корнилке свет!
Алмаз распалился:
– Не ведаешь сам ты, боярин, на что государя и всю державу толкаешь! Сегодня ты на Дон пошлешь воевод со стрельцами, а завтра что сотворится? Казаки куда подадутся?! На Куму, на Кубань и на Терек станут бежать, на новые земли. А мы и с Азовом и с крымцами станем лицо к лицу, да и смуты никак не избудем. Теперь воровские людишки со всей Руси бегут на Дон, а тогда и во всем государстве пойдет возрастать воровская рассада! – Думный дьяк прорвался и лез напролом, мстя боярину за то, что тот множество раз заставлял его молчать и смиряться. – Ты любишь, боярин, чтобы тебя величали, книжность твою и державное разумение восхваляли, хочешь, чтобы к тебе государь был преклонен, как к орлу, парящему мыслию всех превыше. Ан в иных-то – не книжных делах ты, бедненький, слеп и убог!.. Каков же ты в них поводырь государю?! Бес властолюбия дражнит тебя, боярин!..
Ордын-Нащокин не сразу опомнился. Он привык к тому, что ему при царе никто не смел возражать, и тут вдруг вся кротость его слетела.
– Забылся ты, дьяк! – в бешенстве крикнул он, брызжа слюной. – С кем толкуешь?! Тебя-то каков бес пихает Корнилку блюсти на Дону?! Дары его любишь?! Корыстник!
Вначале царь, опустив глаза, исподтишка, с любопытством слушал и наблюдал, но увидал, что ссора зашла далеко.
– Ближние люди мои! Алмаз! Афанасий Лаврентьич! Стыдитесь! Ведь я государь, а вы свару затеяли! – прервал царь боярина. – Я вас для совета призвал, дорогие, любезные сердцу, а вы... – Царь горестно покачал головой. – В кручину так вгоните, право! Да что же я стану думать о вас обоих?! Спаси господь, сохрани, кабы правда была, что вы вгорячах-то сейчас наплели друг на друга... Ан ведаю я, что оба лишь о державе печетесь, как лучше устроить державный покой... Миритесь сейчас же при мне!..
Царь боялся всегда прямых столкновений между людьми. Он любил, чтобы у него на глазах все получало видимость мира, любви и дружбы, не хотел ничего слышать о честолюбстве, подсиживании, кознях или корысти. Его слабостью было мирить поссорившихся людей и слыть миротворцем, хотя зачастую он сам нисколько не верил в их примирение...
– Ну вот, так-то и ладно! – довольно сказал царь, когда заставил облобызаться боярина с думным дьяком. – Покуда вы сварились тут вгорячах, на меня снизошло утешенье от господа бога. Милость – царям подпора и царских венцов украшение. Иной раз молитвой и милостью укротишь мятеж пуще, нежели жестокосердием и мечом. Напиши, Алмаз, в Астрахань, чтобы идти гулевым казакам с атаманом по их домам, к себе на Дон, и мирно селиться в станицах... А войско стрелецкое мы туды не пошлем... Не спорься со мною, Алмаз Иваныч! – поспешно сказал царь, хотя, пораженный неожиданным оборотом, думный дьяк растерянно и удивленно молчал. – Не спорься! Строптивый ты стал, старик! Вишь, Афанасий Лаврентьич молчит, а ведь я ни тебя, ни его не послушал – лишь голоса божья! Оттого у нас и нелюбье и мятежи, что караем без меры. Хочу мир устроить в державе... Не жесточи, Алмаз, царское сердце!
Царь набожно поднял глаза к иконе.
– Подай, господи, на землю мир и в человецы благоволение! – торжественно произнес царь.
Ордын-Нащокин перекрестился истово, медленно вслед за царем возведя глаза на лампаду. Алмаз небрежно махнул щепоткой вокруг большого седобородого лица, густо кашлянул и, весь багровый, отвернулся, силясь понять царскую хитрость...
Стрелецкий десятник
Из Москвы с новым воеводой наехали в Астрахань ратные иноземцы – англичане и шведы – и на новый, невиданный лад стали обучать астраханских сотников и пятидесятников, те собрали на переучку своих десятников, и так дело дошло до простых стрельцов, которых оторвали от домов, заставили бросить промыслы и торговлю и жить в больших и нескладных постройках стрелецких приказов.
Только десятники и более старшие начальные люди могли по-прежнему жить у себя по домам.
Никита Петух, как новоприборный стрелец, был свободен только в воскресные дни, и тогда он бежал к Маше. Он не мог без нее прожить долго. Тоска его не унималась...
– Покинь ты ходить к ней, блудяща душа! Далась тебе Машка! Постыл ты ей, – сказала ему старуха.
– А может, полюбит! – с надеждою возразил стрелец. – Не блудом я: замуж возьму, всю жизнь любить стану!