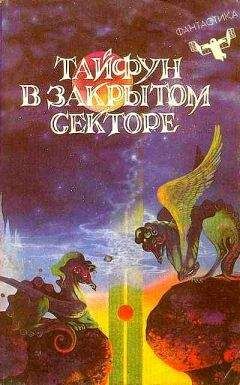Иван Полуянов - Одолень-трава
— Где печать, Леонтий? Сдай дела.
— Как избранник народа, — напыжился Сазонов, — не тебе я подотчетен. Предъяви сперва мандат.
— Этот мандат тебя устроит? — о стол брякнул наганом Григорий Иванович. — Евдоким, — велел он Овдокше, — зови на сходку раменцев.
Помню, как Овдокшу выбрали волостным депутатом. На сходке Квашня к месту и не к месту возглашал: «Даешь мировую революцию! Даешь коммунизму!» Викентий Пудиевич спросил:
— Евдоким, как ты представляешь коммунизм, поделись с нами соображениями.
Потел Овдокша, язык у него заплетался — смотреть на мужика было жалко. Будто на посмешище выставленный, маялся, не зная, что ему сказать.
— Это самое, товарищи, — комкал Квашня зажатую в руке шапчонку. — Советы, перво-наперво. Сверху донизу, как Ленин указует. А коммуния… Перво-наперво, справедливость, — озирался он вокруг, кто бы ему подсобил. — Значит, полная заединщина промеж трудового народа в мировом масштабе.
«Масштаб» — слово ученое. Сходка попритихла уважительно.
Не утерпел Квашня и ляпнул, ободренный всеобщим вниманием:
— Баб, товарищи, будем водить в шелковых сарафанах. Гимназию в Раменье откроем детишек учить.
Дружным хохотом грохнула сходка, думалось, стекла из рам брызнут:
— Га-а… Пелагея Квашенкова в шелках!
— Овдокша, он до гимназии доведет.
Достовалов в председательский колокольчик звенел, призывал:
— Граждане, соблюдайте порядок! Вопрос обсуждаем серьезный!
Викентий Пудиевич в общем шуме и хохоте предложил:
— Есть мнение: выдвинуть Евдокима Николаевича в состав волостного Совета.
Смехом и проголосовало Раменье за Овдокшу.
Теперь он наторел выступать на митингах.
Словно сейчас его вижу: в одной руке выменянная у прохожих солдат зажигалка, в другой ком снега.
— Как огню, товарищи, — тряс Овдокша зажигалкой, пламя ее смигивало, — как красному огню с белым снегом не сродниться, так не быть согласию трудового народа с капиталом. Кто не с нами, тот против нас!
Глядя на него, я удивлялся: Овдокша ли это, над кем потешалось Раменье?
Я ношу ему губернские «Известия». Неграмотный, Овдокша считает, газета ему полагается как депутату.
«Луч», «Вольное слово», «Епархиальные ведомости» — полно всяких газет выходило. В один голос ругали они большевиков. Брестский мир. В уезде и губернии от времен Керенского нетронутыми оставались земства, думы, союз городов. Север, окраина, чего уж! Настолько мы обособились, что и Россия вроде, но будто и не Россия.
Все же отощала моя почтальонская сумка, когда стали прикрывать антисоветские газеты одну за другой.
Мне от того большая выгода: разнесу письма по избам, пакеты с директивами сдам в волисполком под расписки — и на свою пожню косить сено, метать стога.
Меня ждут, небось с обеда Маняша с Петей сидят на изгороди:
— Федя… Федя с сумкой!
Раз я с сумкой, то есть паек.
Ради пайка устроил меня Григорий Достовалов в почтальоны. Работникам почты выдавали и сахарину, и соли, и печеного хлеба, табаку.
— По-советски будем делить или по-старопрежнему? — хватался Петя за мою сумку.
— По едокам, — тянула Маняша сумку к себе. — Не обманешь.
Дело в том, что, наслушавшись в селе, как «раньше сыто жилось», Маняша однажды попросила мой паек делить по-старому, думала, не больше ли достанется, но Петя крохи ей не дал:
— На тебя, девка, даже земли раньше не полагалось.
Маленький, но сообразил! При царе впрямь на женский пол земли не давали, только недавно состоялся передел — по едокам.
«Едоки», «конфискация», «реквизиция»… Каждый день новшества. Чего уж! Новшества, а все едино косить надо, и на свое поле прежде всего оглядываешься: скоро ли хлебушек поспеет?
На Пудином подворье корреспонденцию принимал Викентий Пудиевич.
— Немцы в Киеве! — швырял он газеты, едва пробежав глазами заголовки. — Мать городов русских топчет германский сапог… Позор и унижение!
Приникал лбом к оконному стеклу:
Черный ветер. Белый снег.
Ветер, ветер —
На ногах не стоит человек.
Он заменил офицерский китель серым пиджачком, увечную руку сует просто в карман.
Оттого, что часто вижу я его по-домашнему, без френча, без хромовых сапог и серебряного Георгия, стал он доступней и ближе. Прежнего мальчишечьего благоговения: офицер, герой — уж нет.
Насмотрелись всяких! Проезжал как-то через Раменье штабс-капитан, грудь в крестах. С шиком завернул к «Парижу». Пуд-Деревянный под локоток высадил его из брички.
Неделю кутил штабс-капитан, упивался пивом. Кресты свои заложил, и Сеня-Потихоня взашей вытолкал его с подворья.
Помню, торопился я на почту. Вскоре за Кречатьим угором настиг Григорий Иванович в исполкомовской бричке: «Садись, вдвоем дорога короче!»
Обогнали мы штабс-капитана. Нахмурился Достовалов: «Подвезти, что ли, его благородие? Э, пускай учится пешком ходить!» Плелись по обочине нищенки, монах с кружкой на боку и в скуфейке, какие-то мужики с котомками. Ус покусывал Достовалов:
— Что-то много лишнего народу шляется!
— Большая дорога, Григорий Иванович, ямской тракт.
Катил навстречу возок. Плетеный, качался возок на рессорах. Чтобы разминуться с нашей бричкой, возок свернул на обочину. Лицо ездока показалось мне знакомым — широкое, красное, бритое.
— Приказчик какой-то, — сказал Достовалов. — И чего его черт носит в Раменье через день да каждый день?
Он хотел спрыгнуть с брички, остановить возок, однако отдумал:
— Большая дорога, ты прав.
И обернулся ко мне, посветлел лицом:
— Понимаешь, Федя, на волость обещан ящик гвоздей, еду получать.
Лихо заломлена папаха. На боку наган в кобуре.
Кому что, нашему председателю гвозди в радость. Голод в уезде на все, ничего вдруг не стало в лавках, хоть шаром покати, гвозди и те пропали.
* * *— Воры-ы! — исходил воплями Пуд-Деревянный. Ворот рубахи разодран до пояса, глаза слезятся, лезут из орбит. — Горбом наживал, не доем, не допью… Воры-ы!
— Отец, успокойся, — оттирая с крыльца, заслонял его Викентий Пудиевич. — Все в порядке вещей. На законном основании исполком изымает излишки хлеба.
Пуд побагровел, трясясь от злобы:
— Во я на твой закон!
Плевок попал на пиджак учителя.
— Хорошо, очень хорошо… — Щеки Пахолкова обметались красными пятнами. — Да убери ты его, — прошипел он Сене-Потихоне. — Устроили, понимаете ли, представление.
Потихоня увел хозяина. Захлопнулась дверь, звякнув пружиной.
С лестницы долго доносились задохливый говорок Сеньки, вопли Пуда-Деревянного:
— Сулил порядки… Сы-ын! Оборону обещал от нехристей… Проклинаю на веки веков!
На лабазах сняты замки. Мужики ссыпают зерно, муку в мешки и носят на подводы.
В гривах коней ленты. На передней телеге парусит плакат, растянутый между хворостинами:
«ХЛЕБ БУРЖУЕВ — ГОЛОДАЮЩИМ ПРОЛЕТАРИЯМ!»Обоз ушел за полдень.
— В путь добрый! — напутствовал Достовалов.
Сопровождали подводы кавалеристы с винтовками.
Ударяясь о стремена, вызванивали ножны сабель. Банда объявилась в уезде, без охраны хлеб нельзя отпускать.
Железные ободья колес с шипеньем давили песок. В задках дрог качались ведра с колесной мазью.
А к вечеру… А вечером провезли на тех же дрогах порубленных топорами, побитых кавалеристов. Были пусты дроги, плакат заменен на другой. Колесной мазью на кумачной тряпице выведено криво: «Привет от Высоковского».
С дрог свешивалась нога — желтая, босая, с подсиненными ногтями.
Ничего не ведая, по запольной дороге шел Овдокша. Забросил Квашня крестьянскую работу, бегая по волости с митинга на митинг.
— Пелагея, — издали дозывался Овдокша. — Пелагея! Топи баню депутату!
Была суббота, банный день. Стояло жаркое лето 1918 года.
Где-то за лесом погремливало, собиралась гроза. Неподвижен был флаг на колокольне — ветрами трепанный, дождями замытый добела.
Глава VI
Зарева
— Старенькая, что они с тобой сделали, изверги!
Не по себе мне от маминого шепота, от того, что не встает, в лежку лежит Пеструха. В хлеву темно, об оконное стекло бьется мохнатый шмель. Ползает шмель, оскальзываясь лапками на стекле, жужжит надсадно.
Кажется, сколько себя помню, помню Пеструху. Я была совсем маленькая, когда новорожденную телушку из хлева, чтобы не зябла, перенесли в избу. Шаталась моя забава-потешка на восковых копытах; за сивыми ресницами в радужных, как мыльный пузырь, круглых глазенках переливались блики огня — у нас топилась печь. К утру выстывало в избе: на половицы босиком не ступи, морозно за пятку укусит. У Пеструшки был тугой нос, гладкая ласковая шерсть, белая, в темных пятнах, и хвостик с кистью. Задрала она хвостик, пошла, пошла взбрыкивать, нисколько вперед не подаваясь, топоча на месте, — раз и навсегда покорила, бедовая.