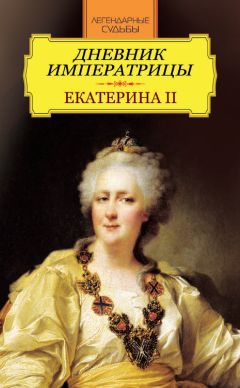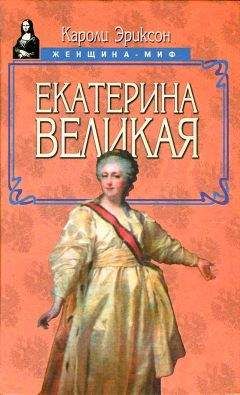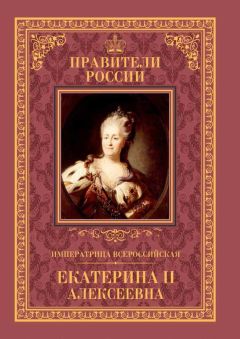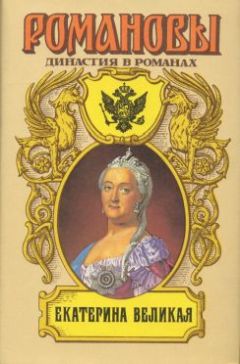Вадим Полуян - Юрий Звенигородский
Степанида, заглушая, вопила:
— Детки, бежимте в лес! Государыня, что сидишь?
Юрий в испуге тормошил мать. Она стала неживой, холодной. Красивые уста произнесли тихо:
— Они не тронут… семью великого князя Московского!
Как бы в ответ случилось ужасное: братец Васенька отшатнулся, и Степанида с разрубленной головой рухнула у подножки кареты. Но человекообразный зверь в треухом меховом малахае, ее убийца, с окровавленным мечом упал тут же. Он был проколот всадником, что промчался мимо.
Юрий, стоя на четвереньках, в открытую дверцу видел: один всадник, другой, третий, — сбился со счету! — летели от хвоста поезда в лоб напавшим. В каком-то из них — о радость! — он узнал… это же, откуда ни возьмись Борис Галицкий, собственный его дядька! Оглушил ярым криком:
— Евагрий! — Где-то впереди послышался отклик: «Угу-гуй!» — Евагрий, перекрывай дорогу! Олежка, Юшка, коли, руби!
Сам не рубил. Стягивал жгут на руке Осея. Обещал:
— Сейчас положим всех тохтамышек! — Распоряжался: — Эй, погонялки! — (Юрий глазам не верил: на коренниках с кнутами сидели матунькины сенные девки). — Сворачивайте в левую просеку к озеру. Да не мешкайте!
Бой впереди утих. Всадник, отмстивший за Степаниду, подскакал к дядьке:
— Упустили-таки одну собаку. Не успели настичь.
— Погоняй! — завопил Борис Галицкий. Втолкнул Осея в кибитку. И сам — туда же.
Карета великой княгини тоже сорвалась с места. Старший брат Васенька прикрыл дверцу. По щекам текли слезы:
— Ранили моего Осея! Убили Стешу!
Юрий заревел в голос. Мать рассердилась:
— Сидите тихо!
Все последующие события смешались в сознании восьмилетнего княжича, как кости тавлеи[12], в которые играли со старшим братцем в Москве, в златоверхом тереме. Кажется, так давно это было. Теперь они оба не благополучные теремные сидельцы, а бесприютные беглецы. После, на протяжении всей своей жизни, Юрий бессвязно помнил только отрывки их тогдашнего бездомного, не человечьего, а скорее, заячьего существования.
Ярко запечатлелось в памяти огромное озеро, водным зерцалом разлегшееся под лесистым холмом. Там, наверху, кудрявится черный дым, будто курится горловина, провал огненной горы, о каких поведывал в златоверхом тереме ученый монах, проезжавший через Москву из западных стран в восточные. Юрий узнал от дядьки Бориса: это горит переяславский детинец, подожженный ордынцами. А внизу, у воды, крикливая суета, доходящая до драки: чудом спасшиеся переяславцы расхватывают лодки, плоты, все плавучее. Охрана, прибывшая с Борисом Галицким, оттесняет нахрапистых от двух больших лодей: они — для великой княгини и ее ближних.
Мужики — в кулаки, бабы с детьми ревмя ревут: коли вопрос о спасении или гибели, тут уж не до князей и не до бояр, тем более пришлых. Однако сила солому ломит. Вот уж великокняжеская семья усажена в одну лодью, Елена Ольгердовна с княгиней Анной — в другую. Прислужницы притиснулись к госпожам. А местные, кому не досталось плавучих средств, пусть удовлетворяются брошенными конями, каретами и телегами, хотя на них от ордынцев далеко не уйдешь.
— Жаль бедных людей! — возвышается среди лодьи, сцепив руки на груди, Евдокия Дмитриевна.
— Мне жалко Трофима Волка, нашего дворского, — подает голос сидящий с рукой на перевязи Осей. — Узнал его, связанного, среди напавших. Как к нам пришла неожиданная подмога, убили беднягу.
— Спаси Бог тебя, Борис Васильич! — обратилась к Галицкому великая княгиня. — Если бы не ты…
Дядька Юрия руководил отплытием. Берег с оставшимися переяславцами и великокняжеским добром (сколько коробов в лодьи не вошло!) стал отдаляться, уменьшаясь.
— A-а! Этого я боялся! — воскликнул Борис Галицкий, вытянув руку.
Юрий, как и все, увидел и услышал: ордынская конница, тысяченогая змея, выползла из леса и принялась косить, как сорную траву, людей на берегу. Ах, переяславцы! Разве скажешь, что больнее ранит уши, жалобные вопли убиваемых или звериный визг убийц?
— Тохтамыш! — скрипел зубами раненый Осей. — Повсюду нынче Тохтамыш, — в Звенигороде, Дмитрове, Можайске, Юрьеве, Владимире и здесь, в Переяславле.
— Так уж повсюду! — не верила, умащиваясь в лодье Домникея с княжичем Андреем на руках.
— Борис Васильич сказывал, — пустился объяснять Осей, — новый ордынский хан с большими силами пошел к Москве, а малые отправил по окрестным городам. Все предает мечу, напоминая прародителя Батыя. Игумен Сергий после нашего отбытия узнал от беглеца-переяславца, что здесь творится, и отправил с проезжающим Борисом нам подмогу. Галицкий, хоть и не воин, да сметлив: послал в обход лесом инока Евагрия с товарищами отрезать тохтамышкам путь к утечке. На татар ударили со лба и со спины. Этим и спаслись.
— Гляди, — кивнул княжич Василий на середину озера, — многие переяславцы тоже спаслись.
И впрямь, кому достались лодьи, отошли от берега далее дострела вражеской стрелы. Злобные ордынцы ищут-рыщут для погони хоть суденышка, да поздно. Вплавь бросаться на конях боятся, — далеко!
— Понегодуют и уйдут, — решил Осей. — Одну собаку брат Евагрий упустил, вот и вернулась с целой сворой!
Когда великокняжеские лодьи шли серединой озера, осанистый переяславец, должно быть, из купцов, узнал великую княгиню:
— Матушка, Дмитриевна, куда же ты? Останься с нами. Враги оставят город, возвратимся, приютим, попотчуем, чем Бог пошлет.
— Благодарю на добром слове! — Евдокия поклонилась издали. — Спешу с семейством к мужу.
Вот уж они одни. Кругом вода. Зеленой кромкой — противоположный берег. Борис Галицкий лишь головой качал, следя за взмахами тяжелых весел. Гребцов не поторопишь: у уключин сидят опять-таки сенные девки. Мужики-возничие влились к дворцовым стражникам, приняли неравный бой и пали все до одного. Остался жив только Осей, знаток бойцовского искусства. Святотроицкие иноки явились, выручили и, отпущенные Галицким, умчались восвояси. Не в Кострому же им с великою княгиней! Четвериками управляли по дороге к озеру не все умелые девичьи руки. Юрию страх было наблюдать за своим дядькой. Тот морщился, чесал в затылке, дергал молодцеватые усы. Приблизясь к Евдокии Дмитриевне, сказал почти повинно:
— Не попались на мечи ордынцев, так не попасться бы на зубы лесных зверей. Нет охраны, нет коней, обоз потерян почти полностью. Ума не приложу, как быть.
— Ты сделал сверх того, что в силах человека, — молвила великая княгиня. — В остальном положимся на помощь Божью.
— Святости твои и ценности укрыл надежно, — доложил Борис Галицкий. — Ханские ищейки дворец перевернут вверх дном, а не найдут. Еще хотел в Москве нанять ребят для охраны, да там такое!.. Сам едва выбрался.
Лодьи уткнулись в берег, и начался тяжелый путь. Пешими шли до ночи. Юрий стер обе ноги. Но, видя, как шагает старший братец Васенька, не жалуясь, не замедляя ходу, сам, сцепив зубы, терпел боль. Лишь у костра, когда с него стянули обувь, дабы высушить онучи, дядька увидел раны и прищелкнул языком. Утром терпеливый княжич продолжал пешехожение на забинтованных ногах в просторных онучах Домникеи.
Питались грибами, ягодами, пока тропа, сколько-то дней спустя, не вывела к обширной лесной поляне с погостом в пять избушек. Здесь выспались, поели хлеба. Матунька втридорога оторвала от бедного мужицкого хозяйства двух коней. Телеги были старые, скрипучие. В одной ехала сама с детьми да с теткой Анной и Ольгердовой Еленой. На другой везли припас и коробы, что поместились в лодьях.
Чередовались дни и ночи. Сутки походили друг на друга. Тихо двигался убогий поезд. Всякий шум пугал. Любая перекрестная стезя рождала мрачные сомненья, хотя охотник-проводник знал здешний лес, как собственную длань. То ли звериная, то ль человечья тропа вилась проходом, будто с трудом проложенным в густой толпе дремучих елей. Для пешего достаточна, для конного с телегою тесна. Зеленопалые долгие руки вековых деревьев то озорно, то покровительственно хлопали по лицам и плечам. Колеса резко прыгали на корневищах. Узкая лента неба, что светлела между шлемами мохнатых хвойных великанов, с утра до ночи радовала чистотой лазури. Путь был сухим, но воздух с каждым днем терял тепло. В ночное время злее напоминал, что лето кончилось, осень уж не у дверей стучится, перенесла ногу за порог, и шерстяной полукафтанец пора менять на меховой тулуп. Однако рухлядь-то осталась в коробах под Переяславлем, не влезших в лодьи.
Теплолюбивый Юрий просыпался в шалаше, наскоро собранном из лапника: дрожал весь. Слушал ночной шум большого леса. Гукала сова. С хрустом в сушняке ворочался тяжелый зверь, должно быть, вепрь. Откуда-то из вышней тишины вдруг приближался, дышал в уши жаркий шепот. Не предки ли ночами покидают горний мир, дабы шепнуть потомкам предостережение. Слова по слабости звучали неразборчиво, а все равно пугают. Княжич крепче смежал веки, жался к матери. Та пробуждалась, успокаивала: