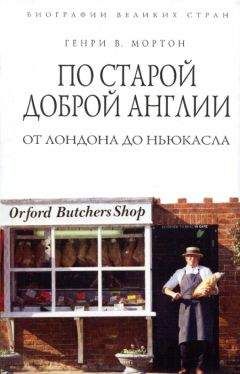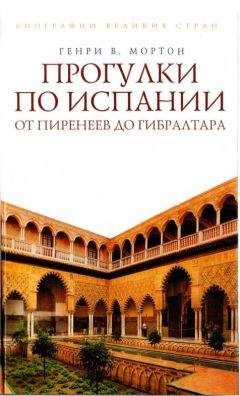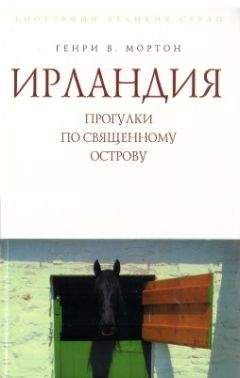Алексей Новиков - Последний год
Он говорил о неопытности и беспечности жены!
А Зизи не могла нанести ему оскорбления, самого тяжкого из всех возможных. Она не могла повторить ему о Натали того, что так легко срывалось с языка Аннет…
Пушкин уехал. Баронесса Вревская поняла – наступил решительный для него час. Но что может сделать провинциальная помещица, явившаяся в Петербург с опрометчивым обещанием: «Я, маменька, до всего дознаюсь»?
Только еще темнее стало все происходящее вокруг поэта. Хоть бы пришла Аннет!
В то время уже начался вечер у Вяземских. Из всех бесед, увлекательных и задушевных, умных или пустопорожних, что вели между собою гости, стоило бы обратить особое внимание на один короткий разговор, которого, правда, никто из собравшихся не слышал.
Наталья Николаевна Пушкина, не дослушав приветствия Дантеса, бросила ему тихо:
– Вы играете с огнем!
– Вы правы, нам лучше видеться без посторонних глаз.
Натали тотчас от него отошла.
Пушкин беседовал с хозяйкой дома. Он опять вспомнил брюлловскую акварель. Лучше бы и вовсе ему эту прелесть не видеть. Теперь он чувствует себя так, будто его лишили последнего утешения.
Вера Федоровна от души смеялась: бывают же у человека этакие причуды…
Пушкин бросил взгляд туда, где стоял покинутый Натальей Николаевной Дантес, и сказал Вере Федоровне так, будто сообщил самую заурядную новость:
– Он еще не знает, что ожидает его дома.
Вера Федоровна чуть было не пропустила без внимания эти слова, – такой безразличный был у Пушкина голос. И вдруг опомнилась.
– О чем вы говорите?
– Вы скоро узнаете…
И сколько ни расспрашивала встревоженная Вера Федоровна, ничего больше Пушкин объяснять не стал.
Вера Федоровна, как ни отвлекали ее обязанности хозяйки дома, успела шепнуть мужу:
– Пушкин опять что-то затевает. Что бы это могло быть?
– Во всяком случае, не дуэль, – отвечал Петр Андреевич. – По одному делу не дерутся, матушка, дважды. А к прочим его затеям нам не привыкать стать.
Петр Андреевич озабоченно взглянул на жену:
– Надеюсь, у нас не ударят сегодня лицом в грязь ни буфетчик, ни повар! Прошу тебя, возьми все меры!
Глава тринадцатая
– От Пушкина?! – Барон Луи Геккерен не верил собственным глазам. О чем может писать ему этот страшный человек? Кажется, все поводы для писем исключены навсегда.
Но письмо было все-таки от Пушкина, и, конечно, осторожнее было его прочитать.
«Барон, – писал Пушкин, – позвольте мне подвести итог тому, что недавно произошло. Поведение вашего сына было мне известно уже давно и не могло быть мне безразличным. Я довольствовался ролью наблюдателя, с тем, чтобы вмешаться, когда сочту это уместным. Случай, который во всякое иное время был бы мне очень неприятен, счастливо вывел меня из затруднения: я получил безыменные письма…»
Барон ощутил первые признаки раздражения. Изволь портить глаза, читая докучливое письмо!
«Я увидел, что время пришло, и этим воспользовался, – продолжал Пушкин. – Вы знаете остальное…»
Ничего не хочет знать почтенный барон. Все давно кончено женитьбой Жоржа… Однако… Однако… черт знает, что этот Пушкин позволяет себе писать:
«Я заставил вашего сына играть роль столь плачевную, что жена моя, изумленная такой подлой трусостью и пошлостью, не могла воздержаться от смеха…»
Даже изящный французский язык, которым пользуется Пушкин, не может ослабить силы наносимых оскорблений.
Письмо, однако, все еще оставалось недочитанным. Луи Геккерен заставил себя к нему вернуться.
«Я вынужден признать, барон, – значилось в письме, – что ваша роль была не совсем пристойна. Вы, представитель венчанной главы, отечески служили сводником вашему сыну…»
Барон Луи отказывался верить своим глазам. Но обвинения следовали в письме одно за другим:
«Повидимому, все его поведение (впрочем, довольно неловкое) было направляемо вами. Это, вероятно, вы диктовали убогие любезности, которые он отпускал, и нелепости, которые он покушался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали жену мою во всех углах, чтобы говорить с нею о любви вашего внебрачного отпрыска или почитаемого за такового… вы говорили, что он умирает от любви к ней, вы бормотали: «верните мне моего сына…»
Строчки прыгали перед глазами Луи Геккерена. Лицо барона покрылось мертвенной бледностью. Дыхание почти остановилось. Его оживляла только одна мысль: как отразить нападение? Отщепенец, извергнутый обществом, начинает открытую войну против барона Геккерена де Беверваард, чтимого артистократией всей Европы!
Барону было невдомек, что подобное письмо он мог получить еще два месяца тому назад. Еще тогда обожгло душу поэта каждое признание, слетавшее с уст оскорбленной Таши. Тогда было написано разящее письмо. Правда, теперь только клочья от него валяются, брошенные на пол в кабинете Пушкина. Но Александр Сергеевич снова переписал свое письмо и снова повторил весь грозный счет. Ни от чего не отказался. Ничего не забыл. Ни в чем не разуверился.
Много времени прошло раньше, чем барон Луи Геккерен мог продолжить чтение. Вот они, либералы! О Жорж, Жорж, сколько раз ты был предупрежден об опасности любящим отцом! Теперь муж госпожи Пушкиной преследует барона Геккерена в выражениях, смысл которых требует самой суровой кары. В этом не оставляло никаких сомнений продолжение письма:
«Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу потерпеть, чтобы семейство мое имело хоть какие-либо сношения с вашим. Только на этом условии согласился я не давать дальнейшего хода этому грязному делу и не бесчестить вас в глазах нашего и вашего двора, на что имел и право, и намерение».
Пушкин не обвинял больше голландского посланника в сочинении грязной анонимки. Он бил теперь в одну точку:
«Я не желаю, чтобы жена моя вновь выслушивала ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после гнусного своего поведения, дерзал разговаривать с моей женой, а тем более отпускал ей каламбуры, отзывающие кордегардией, и разыгрывал преданность и несчастливую страсть, в то время, как он просто подлый трус и бездельник…»
Если до сих пор Луи Геккерен, читая и перечитывая письмо, был мертвенно бледен, то теперь лицо его вдруг стало багровым. Жорж совсем недавно уехал к Вяземским, а там, ничего не ведая, может встретить Пушкину и попасть в расставленную ему западню!
Заключительная часть письма могла только усилить наихудшие опасения:
«Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проделкам, если желаете избегнуть нового скандала, перед которым я, конечно, не отступлю. Имею честь быть, барон, вашим нижайшим и покорнейшим слугой.
А л е к с а н д р П у ш к и н»
Жорж, может быть, уже стал в этот час жертвой учиненного ему у Вяземских скандала!
Но какие бы проклятия ни призывал барон Луи на голову Пушкина, мысль его работала теперь деятельно и плодотворно. Он держит в своих руках письмо, которое может обратить внимание властей на этого неистового в своей ненависти к благомыслящим людям отщепенца. Ему не позволят безнаказанно оскорблять полномочного посланника. Надо только доверительно посоветоваться с друзьями, приверженными к тем же высоким и непоколебимым принципам, которые исповедует барон Луи Геккерен. Обуздать и обезвредить Пушкина нужно немедленно. Авось сегодня у Вяземских спасет Жоржа всевышний!
В поисках лучшего пути посланник вспомнил, что он зван к графу Строганову. Чего же лучше для начала? Граф Григорий Александрович, проявивший вместе с супругой столько внимания и любви к семейству Геккеренов, и даст первый совет.
Барон Луи, едва явившись к Строгановым, прочел письмо Пушкина.
– Чем же его остановить? – вопросил он, кончив чтение.
– Пистолетом или шпагой, по вашему выбору, – отрезал граф Строганов.
Это было совсем не то, о чем думал барон Геккерен, и он тотчас сделал неопровержимое возражение:
– Но мое положение, граф…
– Ваш сын, оскорбленный вместе с вами и не меньше вас, будет просить у вас позволения свести счеты с Пушкиным у барьера. Не сомневаюсь в высоком понимании им своего долга.
Этого и вовсе не хотел барон Луи.
– Благодарю вас, граф, за столь лестное мнение о Жорже…
Барон Геккерен присмотрелся: Григорий Александрович воинственно тряс головой и находился в экзальтации, совершенно ему не свойственной. Сколько раз в былые времена он сам готов был хвататься за пистолет или за шпагу, чтобы устранить ревнивого мужа или счастливого соперника. Может быть, он мысленно снова был в Мадриде, этот былой донжуан, скрученный жестокой подагрой… Бог знает, какие поединки виделись ему, когда в волнении чувств он даже взмахнул неразлучной тростью…
– Благодарю вас, граф, за столь лестное мнение о Жорже, – еще раз повторил Геккерен. – Но, может быть, следовало бы предварительно выяснить через уважаемых особ: в здравом ли уме написано Пушкиным его письмо?