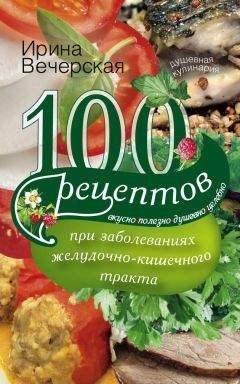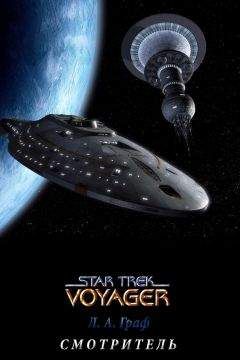Наталья Головина - Возвращение
— Так что же, откладывается на века?!
— На десятилетия. И это недолго… Только мы не застанем.
Это само по себе вызывало ярость оппонентов. Нужно было мужество, чтобы среди ревнителей динамизма, выставляющих как индульгенцию за все и про все свою готовность к самопожертвованию, нести в качестве лозунга слова, вызывающие их негодование: выверенность гуманизмом и упорство. Но такова его вера. Выигрыш, доставшийся иным путем, неизбежно неполноценен. Порождение его — фиктивные демократии, республики и парламентаризмы, которые ничуть не лучше восточных деспотий. Да, Герцен утратил веру во всякие узкие доктрины, его программа заключается в планомерной защите личной и общественной свободы.
Результатом их стычек (помимо неистовства молодого клана) было заключительное убеждение Герцена, что они — не лишние и не праздные люди, но люди озлобленные. «Они представляют собой шаг вперед, но все же болезненный шаг». Сегодняшняя российская жизнь уже взрастила неустрашимых — как он и предсказывал, но они должны еще стать мыслящими!
А вот разговор наедине, только со своими, о том, решаться ли все-таки на союз с «женевцами»?
Упрек Огарева: «Мне кажется, что твоей раздражительностью ты много теряешь влияния вокруг себя». Да, это серьезное предостережение, Герцен согласен с ним. Но… он, чем старее становится, тем менее способен «зажать» себя, чтобы не протестовать, когда видит необходимость того. И ведь это общий грех людей, живущих идеей: они страстно требуют, чтобы сопутствующие разделяли их мысли. Что принимается за нетерпимость. «Счастье их кончается там, где их не понимают». И все же возникла необходимость обсудить их дальнейшие совместные действия, а не его характер. Они должны изменить направление своих усилий. «Колокол» в прежние времена выдвигал программу-минимум: уничтожение крепостного состояния («смиренный и скромный план», по мысли Герцена), теперь же, в 67-м году, нужно брать курс на создание тайной организации и подготовку к свержению строя… По возможности сотрудничая с «женевцами» и приезжими.
Они собрались для разговора в доме у Николая Платоновича. Тот был в немного мешковатой домовязаной блузе и слегка стеснялся этого. Мэри как умела рукодельничала, и он не мог огорчать ее… Он был печален и привычно уже болен. Даже сидя, тяжко опирался на трость: постоянно болела неверно сросшаяся после второго падения нога и затронутые нервы позвоночника. Говорил он мало и скупо, стал более созерцателен, прежние вспышки веселой энергии в нем словно бы иссякли. Но они восполнялись в нем теперь, казалось, еще большей добротой, интуитивными озарениями и глубиной гуманного понимания вещей. Огарев был за то, чтобы отдать молодым «фонд». Не дело, по крайней мере, стоять на их пути.
Бакунин сказал:
— Россия сейчас требует конкретного руководства и практической цели. И вся твоя сила, Герцен, обрушится перед самонадеянными мальчишками, которые взамен способности думать, как ты, будут сметь лучше, чем ты. Российская трагедия: способность мыслить в ущерб способности действовать… и наоборот. Ариадну ведет назад, в катакомбы, нить ее мудрости. Поднимай же, Александр, знамя со свойственным тебе дальновидением и тактом, но поднимай смело, а мы пойдем за тобой на риск и на дело! (Дело это, по Бакунину, — восстание. Оно было невозможно пока…)
Огарев решился вскоре передать молодым свою половину «бахметьевского фонда». Отношение их к Александру Ивановичу стало напоминать теперь травлю…
Герцен по-прежнему отказывался идти на уступки: Бахметьев доверил «фонд» нашему разуму.
В швейцарском подполье (достоверно это станет известно век спустя) были засланные III Отделением агенты. Один из них, Романн, предпринял покупку у престарелого князя Долгорукова его архива российских и европейских тайностей с обязательством в дальнейшем опубликовать его. Он представлял собой связки документов, занимавшие целую комнату, перечень одних их названий составлял тетрадь в пятьдесят шесть страниц. Акция удалась. И архив канул. Проницательности Александра Ивановича Герцена провокатор предельно боялся, ему была дана инструкция избегать встреч с ним до крайней необходимости. Романн и подобные ему также нашептывали молодняку…
В Женеве был объявлен розыск на детей ушедшей от мужа княгини Оболенской. Тот при помощи швейцарской полиции (вот в чем была новинка!) силой отнял у матери младших детей и искал по квартирам эмигрантов старшую девочку Катю. И это в то время, как одной из основных идей республики было право политического убежища! Давно уже Герцена ничто так не задевало. Он протестовал на страницах своей газеты и устно. Отчасти тут было еще и желание солидаризироваться с молодежью. А впрочем, кто бы ни была жертва — он должен вступиться, иначе чувствовал себя не в своей тарелке. Между тем розыск развернулся не на шутку. Был жестоко избит эмигрант Щербаков, и сбросили на ходу с поезда младшего Утина. Против гражданского мужа княгини, Мрочковского, было выдвинуто уголовное обвинение. Увы, здешний молодой клан притих, опасаясь за себя. Тут нет подлинного товарищества и чести, с горечью понял Герцен. Он вновь зашел дальше подлинных действующих лиц, таков, видимо, его удел…
Сценка в гостинице.
Александр Иванович настоятельно требовал приезда Ольги с фон Мейзенбуг. Которая теперь уже делала вид, что не понимает за давностью обучения русского языка (он писал им общие письма на русском), и бог ведает, что она там вкладывала в Ольгу! Герцен должен был о многом толковать с мадемуазель Мальвидой. Так вот, молодняк за соседним столиком кафе постарался в его присутствии высмеять фешенебельную престарелую эстетку… Он сумел прекратить эту сцену, но Мейзенбуг, пользуясь поводом, заявила, что она ни в коем случае не останется жить в таком окружении! Скверно, что дочь во всем пела с ее голоса… Он понял: милейшая «идеалистка» (так она сама называла себя) явочным порядком укоренилась в семье, отомстила за «изгнание» десятилетней давности… Она теперь уж диктовала свои условия.
С молодым лагерем продолжалась сосредоточенная вражда. Герцен получил по почте угрозы ославить его в печати, если он не передаст «бахметьевского фонда». Между тем сам Александр Иванович напряженно думает о своих материальных делах, он давно уже жестко урезает свои расходы и того же требует от детей. Они уже взрослые, но он может выделять им лишь по семи тысяч франков в год. Совет Тате: «Тогда уж лучше жить, не выходя замуж». (Рассуждение мужчины.) Он спрашивает в письме у дочери: что там ее обожатель Мещерский? Она все же пока недостаточно знает его… И он слишком молод. Был бы старше Таты лет на пять… О Лугинине он больше не упоминает. Тот влюблен, ездит увидеться с дочерью во Флоренцию, но выкинул такую шутку!.. Он имел на руках пятьсот франков для передачи женевским товарищам и написал им, что послал-де их Герцену. Вернувшись, он объяснил все детски просто: что была надобность в деньгах. Зачем же меня мешать в эту грязь? — недоумевал Александр Иванович.
Да… его семейные дела. Наталия теперь звала вновь съехаться и говорила запоздалые комплименты насчет «Колокола».
Общий смысл его писем к ней: что же ты сделала с нами?!
Взвинченность и плохое самочувствие Герцена нарастали катастрофически. Выяснилось, что он болен прескверной вещью — диабетом и должен поехать на воды.
Втянут в дрязги с молодыми… Порой, после очередных их нападок или взвинченного прояснения недоразумений, он в досаде потирал виски: «Такта ведь ближнему не займешь». Что не он один воспринимал их таким образом, видно из того, что и Михаил Бакунин резко разошелся в ту пору с «женевцами». Впрочем, Бакунин тут гость, его ждали в неаполитанском фаланстере. Многие в Женеве теперь относились к Александру Ивановичу с подчеркнутой недоброжелательностью. В декабре 1867 года был прекращен выпуск «Колокола» на русском языке, поскольку газета не находила покупателей. Раз и другой кто-то выкрикнул вслед ее издателю: «Отзвонил!» Герцен мерным шагом продолжал путь.
Среди отвесов каменных зданий на набережной возле кафейной, он встретил старшего Утина. Тот сказал развязно:
— Вы собираетесь, верно, выпить с горя… но не принять наши условия! Напрасно…
— Я бы закусывал, да мне не вкусны ни местные революционные утята… ни овцы!
Что же спекается внутри, когда стойкий боец идет под каменьями?.. Горькое: чтобы иметь успех — надо ратовать за беспощадность. (Легче схватывается плакатное.) Но это не по нем.
Что нужно было бы еще, чтобы угодить им?.. Они не раз объясняли ему, что правда — это то, что сегодня на пользу пропаганде. Молодые напрочь отрицают нравственные обязательства по отношению к тому обществу, которое они ненавидят… Но где граница, где те несколько зерен, как спрашивали греческие софисты, которые образуют из щепотки кучу? То бишь есть ли предел у компромиссов? В пугающей популярности у женевцев не понятый им Макиавелли… И прежде всего тезис из его книги «Государь»: «Вопрос не в том, что хорошо и что дурно, а в том, что полезно и что вредно». Эта фраза, в которую автор вкладывал скорее обличение механики репрессивной государственности, указывая, что в рамках существующих обществ она и не может быть иной, оказавшись перевернутой с ног на голову в ее звучании, стала как бы лозунгом у здешних радикалов. Герцен привык считать, что основа нравственности — правда и она же — всегда нравственна… Того и достаточно! По крайней мере, без нее невозможно. Истина — пропаганда?! Потому сам он казался им почти неуместным, «безусловно верный своему слову и верующий»… При всей расшатанности, была очевидной убогая нормативность их мышления: утилитарность заступила в нем место истины.