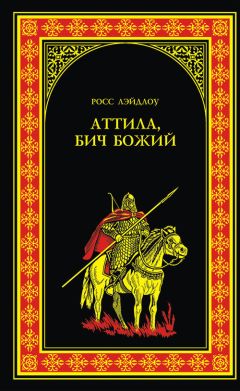Росс Лэйдлоу - Аттила, Бич Божий
Все утро и большую часть дня сурена провел за встречами с осведомителями, доставлявшими информацию из самых отдаленных уголков земли: шкиперами, водившими суда в Тапробану и Паралию [53] , хозяевами караванов, доставлявших шелка из Китая или фимиам из Сабы [54] , торговцами слоновой костью и камедным деревом из Аксума и Нубии [55] . То была работа, которую он любил; она позволяла ему всегда быть в курсе того, что происходило за пределами Персии. Подобным сведениям не было цены; благодаря ним сурене удавалось проводить эффективные переговоры с дипломатами и посланниками из других государств и давать Великому Царю разумные советы относительно внешней политики. Впрочем, больше всего его интересовало то, что происходило в Римской империи – потому, что две ее части формировали огромное единое торговое пространство с собственным внутренним рынком и общими деньгами, сводя тем самым к минимуму необходимость во внешней торговле и контактах.
* * *Слуга уже зажег в приемном покое масляные лампы, и сурена собирался уходить, когда возникший в дверях канцелярист сказал, отвесив низкий поклон:
– Только что доставили пленного. Приказать, чтобы его провели к вам?
– Нет-нет, – раздражительно ответил сурена. – Это может потерпеть до завтра.
– Осмелюсь предположить, что вы пожелаете допросить его сегодня, – настаивал чиновник. – Этот человек – римлянин.
– Вот как? Что ж ты сразу-то не сказал? Конечно, я хочу его видеть. Пусть его сейчас же приведут сюда.
Введенный суреной в Большой зал дастагердского дворца Юлиан (раскрывший лишь свое имя и военное звание) открыл рот от удивления. Стены зала украшали сверкающие римские трофеи – оружие и доспехи, более трехсот штандартов и орлов.
– Эти достались нам после сражения при Каррах, где мы сокрушили войско Красса; произошло это пятьсот лет назад, – сказал сурена на превосходном греческом, указывая на ближайшие знамена. – Это – штандарты армии Валентиниана, капитулировавшей перед нами в Эдессе тремя столетиями позже. А вот эти принадлежали бежавшим с поля боя легионам твоего тезки Юлиана; случилось это всего восемьдесят лет назад, когда некоторые из ныне живущих были еще младенцами. Догадываешься, зачем я показываю тебе все эти вещи?
«Вряд ли он хочет унизить меня напоминаниями о более чем скромных достижениях Рима в боях против персидских царей», – подумал Юлиан. Этот галантный советник, решил он, судя по всему, принадлежит к высшей персидской касте, представители которой чтят храбрость, правду и честь в не меньшей степени, чем римляне, да и обходится он со мной вежливо и предупредительно.
– Честно говоря, нет, господин, – ответил он.
– Я хотел, чтобы на этом наглядном примере ты понял всю бесполезность войны между нашими двумя великими народами, – продолжал сурена. – Что дал Риму и Персии, великим цивилизованным державам, этот многовековой конфликт? Смерти бессчетных тысяч молодых людей, разрушение красивейших городов, превращенные в пустыни плодородные земли, казна, опустошенная дорогостоящими войнами, – вот оно, наше наследство. Это противостояние ни йоты не дало ни одной из сторон; от него – одни лишь потери. Риму и Персии следует быть союзниками, а не врагами; стань мы таковыми, мы бы несметно обогатили друг друга.
– Согласен с каждым вашим словом, господин, – осторожно сказал Юлиан, впечатленный очевидной искренностью советника, но понимавший, что когда-нибудь тот забудет о любезностях и устроит пленному пристрастный допрос. Долго ждать не пришлось.
– Что же ты тогда делаешь посреди персидской Армении? – в голосе сурены зазвучали резкие нотки.
Этот человек способен распознать любую ложь, решил Юлиан и ничего не ответил.
– Твое молчание говорит само за себя, – твердо произнес сурена. – Ты шпион, как я и думал. – Он окинул Юлиана оценивающим взглядом. – Ты откроешь мне все подробности своей миссии, – продолжал он спокойным тоном. – Кроме того, расскажешь все, что знаешь о состоянии обеих римских империй, действенности и готовности их армий, их сильных и слабых сторонах, амбициях и планах правителей и военачальников.
– Я мало что знаю о политике Рима, и вряд ли в этом смысле буду вам полезен. Кроме того, я бы предал доверившихся мне людей, расскажи я вам то немногое, что знаю, или сообщи хоть какую-то информацию касательно своего пребывания в Армении; ведь все, что мне известно, может быть использовано против моей страны.
– Благородные слова. Нечто похожее, наверное, говорил и ваш Регул. Но поверь мне, ты, в конце концов, расскажешь мне все. Либо добровольно, либо… – Он нахмурил брови. – Я весьма расстроюсь, если придется подвергнуть столь отважного молодого человека, как ты, пыткам. Они… очень эффективны. Выбор – за тобой. Но, чтобы помочь его сделать, я тебе кое-что покажу. Следуй за мной.
* * *Небольшая процессия – сурена, Юлиан, трое стражей с факелами, тюремщик и кастелян – спустилась по грязной и сырой лестнице мрачной дастагердской государственной тюрьмы и, прошествовав по длинному коридору, остановилась у зарешеченной камеры, каких в подземелье было не меньше дюжины. Тюремщик отпер и широко распахнул дверь, и взору Юлиана предстала не убогая дыра, какую он ожидал увидеть, а освещенная масляными лампами просторная комната, увешанная богатыми коврами и обставленная мягкими диванами, на одном из которых лежал мужчина в дорогом, хоть и слегка грязном, шелковом платье. Узник зашевелился и уже через мгновение принял сидячие положение.
– Он из знатной семьи и содержится в условиях, соответствующих его положению, – сказал сурена. – Даже оковы его – серебряные.
– Какое преступление он совершил?
– Отрекся от зороастризма и стал христианином – наряду со многими другими персами, – ответил советник. – Что касается низших каст общества – воинов, бюрократов, простого народа, – то Великий Царь предпочитает не обращать внимания на то, что некоторые их представители принимают христианство. Люди же знатные, те, кто должен во всем служить примером остальным, по его мнению, должны быть лишены подобной свободы выбора. Их отказ от государственной религии, Beh Den , Истинной Веры, считается преступлением, караемым смертной казнью. На самом деле, полагая, что армяне достойны того, чтобы исповедовать веру Зороастра, Великий Царь оказывает им любезность. Родственники этого человека, которые, как мы полагаем, тоже приняли христианство, теперь где-то скрываются. Где именно, он, будучи человеком благородным, говорить нам отказался. – На мгновение на лице сурены отразилось сострадание. – Как бы то ни было, желание Великого Царя есть закон, и закону этому мы должны подчиняться. Каким бы неприятным те из нас, кто вынужден приводить приговоры в исполнение, его ни находили, – добавил он вполголоса.
Коротко переговорив с кастеляном, сурена вновь повернулся к Юлиану.
– Похоже, обычные допросы в данном случае оказались неэффективными; заключенный продолжает упрямиться. Что ж, видимо, пришло время применить иные методы.
* * *Обнаженное тело узника покоилось на приподнятой каменной плите в центре комнаты пыток. Заключенный лежал лицом вниз, его распростертые в стороны конечности были крепко связаны ремнями. Позади плиты нерешительно топтались на месте двое слуг в грязных набедренных повязках. За столом, у стены, сидел писец, готовый записать любое высказывание арестанта. Подойдя к заключенному, сурена что-то сказал ему на фарси. Ответом советнику было молчание, и сурена приказал начинать пытку.
Один из слуг ножом сделал большой надрез на спине заключенного, который задергался в конвульсиях, но не произнес ни слова. Тогда кровоточащую рану расширили и при помощи зажимов закрепили в открытом положении. Воспользовавшись щипцами, второй слуга вынул из стоявшей в углу печи раскаленный тигель и залил расплавленный металл в рану. Нечеловеческий крик забившегося в агонии пленника оглашал комнату лишь несколько секунд, по истечении которых тело заключенного обмякло.
– Они используют медь, которая плавится при большей, нежели свинец, температуре, и, соответственно, вызывает более сильную агонию, – пояснил сурена Юлиану, на лице которого все еще отражался неописуемый ужас. – Чуть позже пытка будет продолжена. В конце концов этот упрямец заговорит – на этот счет у меня нет никаких сомнений. Будешь и дальше хранить молчание, – мрачно добавил он, – окажешься на его месте. Пойдем, мы видели достаточно.
– Подумай о себе, парень, – сказал сурена Юлиану, когда они вышли из тюрьмы. – Ты сам видел, что бывает с теми, кто отказывается говорить. В сотрудничестве с нами нет ничего постыдного. В крайнем случае, пока мы будем разбираться с армянами, ты можешь оставаться со мной в моем имении в долине реки Карун, и не как узник, а как почитаемый гость. Будем охотиться – у меня там есть и ястребы, и гончие, – прохладными вечерами слушать музыку лиры и флейты, попивать вино, охлажденное снегом, привезенным с предгорий Санганака. – Он смерил Юлиана пристальным взглядом. – Соглашайся.