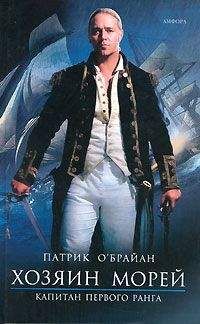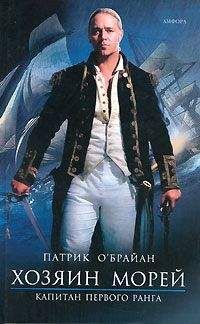Валерий Замыслов - Иван Болотников Кн.2
— Чего побелел, Саввич?.. Да ты не пужайсь, не пужайсь, сосельничек. Ране дружками были и ныне останемся… Никак в Кремль подался?
— В Кремль, к царю позван, — поспешно пролепетал Пронькин. (Скорей бы отделаться от злодея и век его больше не видеть.)
— Ишь ты. В большие люди, выходит, выбился. Купец, что ли?
— Купец, милок, купец. Тороплюсь я. Прощевай.
— Прощаться нам не с руки. Нужон ты мне, Саввич, — Мамон хлопнул Пронькина по плечу и тяжелой увалистой походкой зашагал к Великому торгу.
У купца гнетуще защемило сердце.
Возвращался из дворца безрадостный: царь запросил у именитых купцов денег. Увещевал, клялся вернуть сторицей. Купцы внимали царю смуро: клятвы Василия Шуйского невесомы и ненадежны. Сколь уж раз от слов своих отбрыкивался, хотя крест целовал прилюдно. Но и оставить государя без подмоги нельзя: воры подошли к самой Москве. Столица в осаде. Купцам — ни выходу, ни выезду; торговля захирела. В городах — бунтовщики, на дорогах — разбой. Товар лежнем лежит. И покуда Вора не побьют, купцам быть в убытке. А дабы бунтовщиков извести, нужно большое и крепкое войско. Войско же без денег не соберешь. Так что либо убытки неси, либо царю помогай. Авось с божьей помощью и положит конец Смуте. Купцам же смута — злее ордынца, разор, ни мошны, ни торговли. Купцам покойная, урядливая Русь надобна, без мятежей и разбоя.
«Хуже нет лихолетья», — угрюмо вздыхал Евстигней Саввич.
На другой день, перед самым обедом, в покои вошел привратник.
— Палач до тебя, батюшка.
— Кой палач? — похолодел Пронькин.
— Из кремлевского застенка. Тот, что на Ивановской бунтовщикам головы рубит.
— Не ведаю… Да и пошто? — Евстигней Саввич московских катов и в самом деле не знал: на казни никогда не ходил, страшился крови. — Чего надобно?.. Гони. Пущай себе идет.
Но кат, не дождавшись дозволения, ввалился уже в горницу. Снял шапку, отряхнул снег, перекрестился на божницу.
— Доброго здоровья, хозяин.
— Здорово, — неохотно буркнул Евстигней Саввич, и глаза его вновь, как и при первой встрече с Мамоном, смятенно забегали. (Чего, чего надо этому разбойнику?)
— Как сыскал?
— Сыскать немудрено. Кто ж купца Пронькина на Москве не ведает, коль его сам царь привечает, — густой мерный голос Мамона бодр и насмешлив.
Огляделся и все так же насмешливо молвил:
— Богато живешь, Саввич. И ковры заморские и сосуды золотые в поставцах… А чего в сундуках-то? — увидел перед собой оробелые глаза Пронькина и гулко захохотал. — Трясешься за добро, Саввич. Знать, много накопил. Ишь, сундуками уставился… Да не пужайсь, не пужайсь, зорить твою казну не стану. Чай, свои люди, хе.
— Чего пришел? — беспокойно ерзая на лавке, спросил Пронькин.
— Обычая не ведаешь, — хмыкнул Мамон. — Допрежь накорми, напои. Угостил бы чарочкой, а? Чай, и сам еще не снедал. Разорись, Саввич! В кои-то веки свиделись.
Пронькин кликнул Варвару из светелки, повелел подать на стол. Но обедать сели одни.
— Нам тут потолковать надо, — молвил супруге Евстигней Саввич.
Варвара вновь ушла в светелку, а Мамон, проводив хозяйку похотливыми глазами (статна, кобылица!), вздохнул.
— Не признала… Постарел я, никак.
— Признать ли тебя, — хмуро проронил Евстигней Саввич. — Ране-то черен был, будто из бочки с дегтем вынули. Ныне же рыж, как огонь. Татарской хной, что ли, бороду выкрасил?[66]
— А рыжим больше бог подает. Вон ты у нас какой богатенький, хо-хо!
— Что-то шибко весел, Мамон Ерофеич. Не к добру… Как на Москву не побоялся заявиться?
Мамон выпил чарку, откинулся широченной медвежьей спиной к стене.
— А мне ныне бояться неча, купец. Телятевский — опальный боярин. И не токмо. Вор, бунтовщик, государев изменник. — Сказывают, к Гришке Расстриге пристал. Слышал небось?.. Вот-вот. И ране-то он с Васильем Шуйским цапался, а ныне и вовсе лютым врагом его стал. Так что не страшен мне ныне Телятевский, тьфу на него, собаку! Не избыть ему плахи. Вот уж потешусь, на кусочки разделаю, гордынника!
— Злопамятен же ты, Мамон Ерофеич, — теребя бороду жирными пухлыми пальцами, поизнес Евстигней Саввич, а голову по-прежнему не покидала неистребимая пугающая мысль: зачем пришел сей лиходей, что ему надо?
— Злопамятен, Саввич, ух, злопамятен! Никогда в холопах не был, а Телятевский меня, как самого подлого смерда, сраму предал. Век не забуду сего позорища.
— Как в палачах оказался? Ужель те нравно людей убивать? Не божье то дело.
— Э, нет, Саввич, любое дело божье. И богу, и царю всяки слуги надобны. Каждому свое. Ты вот в купцах всю жизнь помышлял оказаться, а по мне и топор хорош.
— Да к тому ж обвыкнуть надо. Клопа раздавить — и то мерзко, а тут человек.
— А человек хуже клопа, Саввич, — жестко изронил Мамон, стискивая грузной рукой оловянную чарку. — Клоп лишь воняет да помалу кусает. То каждый стерпит, невелик злодей. Человек же, хе, лютей зверя. Лютей, Саввич! Он и зорит, и насилует, и убивает. Пакостник из пакостников. А как живет? В зависти и злобе, в похоти и плутнях. Куды уж зверю до человека.
— Страшен ты, Мамон Ерофеич, — перекрестился Пронькин, и ему в самом деле стало жутко от этого матерого мрачного ката с жестокими ненавидящими глазами. Чего ему надо, чего?! Как выпроводить из дома? Гаврилу, что ль, позвать.
— Ты вот что, Мамон Ерофеич… Мне по делам надобно. Купца ноги кормят.
Поднялся было из-за стола, но Мамон вновь притянул на лавку.
— Сиди, сиди, Саввич. У меня к тебе тоже дело, и немалое… Есть у нас с тобой дружок собинный. Знатный дружок.
— Кой еще дружок? — кисло отмахнулся Пронькин.
— Ивашка Болотников… О нем и потолкуем.
После ухода Мамона купец не находил себе места. В светелку ли к жене придет, на двор ли к работным спустится, но худые мысли не отпускают, орясиной из башки не выбьешь. И надо ж было богу вновь свести его с Мамоном! Век бы его не видать, треклятого! Эк чего с Болотниковым порешил сделать. И как только такое в башку втемяшилось? «Поквитаться надо с Ивашкой. Чай, и у тебя, Евстигней Саввич, на Ивашку кулаки зудят».
Зудят, еще как зудят! Болотников всему купечеству злой ворог. Сколь караванов позорил, сколь именитых гостей в Волгу покидал! Такого разбоя Русь, кажись, и не ведала. Стоном и кровью исходила матушка-Волга. Вот и ему, купцу Пронькину, крепко досталось. Вез хлеб, кожи, шубы собольи — и все это псу под хвост. Ивашка захватил, лиходей! Урон-то, урон-то! Одного хлеба двадцать тыщ пудов лишился. Это в голодные-то годы? Да тому хлебу цены нет. А красная юфть, а бархаты? Под метлу вымел, душегуб! Да что товар — сам едва жив остался. (Во время разбойного набега прыгнул с насада в Волгу и чуть не утонул, добро, берег оказался близко. Повезло: других-то купцов Ивашка с Жигулевских круч пометал).
Добрался до Москвы худой, изодранный, недужный. Брел без единой полушки, никто не кормил, ямщики не сажали. Довелось даже похристарадничать. Срам! А все из-за кого? Из-за холопа Ивашки, сосельника из княжьей вотчины.
Дорого обошелся Пронькину Ивашкин разбой! Почитай, без мошны остался, не знал, как и оправиться. Сунулся было за подмогой к дружкам из Суконной сотни, но те повздыхали, поохали — и руками развели: сами-де в нужде и убытках. Дожили до клюки, ни хлеба, ни муки. Скареды! Хоть бы грош кто подкинул. Куда там! Рады-радешеньки Евстигнееву разору: одним купцом на Москве меньше. Захирел, принуждался, хоть за суму берись. Не чаял уж и выбиться, да вновь князь Телятевский помог. Послал с житом своим в Холмогоры, молвил: «Хлеб там ныне в большой цене. Не продешевишь — пятая доля твоя». Не только не продешевил, но и загнал втридорога. Добрый куш в мошне осел. Князь же новый торговый обоз снарядил, и опять Пронькин внакладе не остался. Так мало-помалу и выкарабкался, достаток заимел.
Но недавно новая поруха от Ивашки. Великая поруха! В сенозарник отправил торговый обоз с солью в Калугу. Помышлял по осени продать с немалой выгодой, но не тут-то было: Ивашка захватил Калугу и отдал соль изменникам-купцам, что помогли Вору город взять. Тысячи пудов как не бывало! То ль не урон? Прав Мамон Ерофеич: такой лиходей всей Руси первейший супостат. Экую замятию в Московском царстве учинил! Всю Русь на воровство поднял. И это тот самый Ивашка, что Христа ради приходил к нему за пудишком хлеба на мельницу. Шапку ломал, в ноги кланялся. И вдруг на-ко! Большой воевода царя Дмитрия. Уму непостижимо! Холоп Ивашка побил знатных воевод и ныне на саму Москву ополчился. Царскому трону угрожает. Шуйского-де побью, бояр и купцов показню, а на престол мужицкого царя поставлю. Страху нагнал, да и какого! Вся Москва трясется. Вор-де, коль Престольную возьмет, никого не пощадит, изменников царя Дмитрия в крови утопит. Жутко на Москве! Особо богатым лихо. А что, как и в самом деле Болотников Москву захватит? Хоромы пожгет, казну отберет и почнет саблей потчевать. В Волхове всех лучших людей изрубил. Свиреп Болотников! Покуда не поздно, надо и казну припрятать, и о своей душе подумать. Мешкать и часу нельзя.