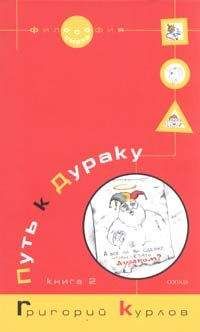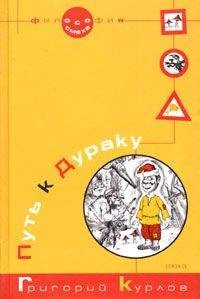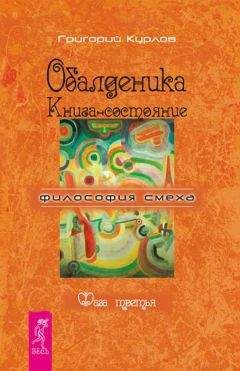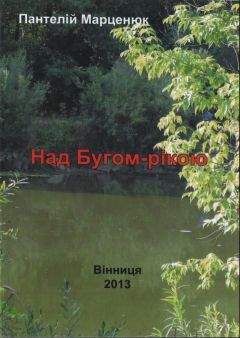Антон Хижняк - Сквозь столетие (книга 1)
— Ну, Григорко! Надо на дорогу, чтобы колеса да оси не скрипели. Бери! — налил в кружку водки.
Мария Анисимовна кивком головы разрешила сыну. Григорко взял кружку, надпил немного, поморщился и выплеснул водку вверх.
— Что ты сделал?! — завопил Епифан. — Такое добро! Теперь же нет монопольки!
— Считай, что я выпил. Не сердись, Епифан. Вернусь — тебе полную кварту поставлю.
Староста вышел на крыльцо и громко произнес:
— Люди добрые! Прощайтесь! Пускай воины садятся на телеги. Пора ехать.
Тысячеголовая толпа пришла в движение. Еще громче зарыдали и заголосили женщины, причитая:
— Ой, сынок, сынок мой!
— Любимый муж мой!
— Да куда же вас везут, куда вас гонят!
— Посмотри на ребенка. Посмотри!
И двинулись с площади. Шли, покачиваясь, мобилизованные, окруженные большой толпой сельчан. Из-под тысячи ног поднимались клубы пыли. А люди все шли и шли. Шли и рыдали молодые жены и старые матери. Заливались плачем младенцы на руках молодиц. Дети не понимали, что творится вокруг, и поэтому громко кричали. Со страхом перекочевывали они из рук матерей в отцовские. А отцы, целуя их, снова передавали матерям. Дети поднимали крик, и никто не унимал их, потому что матери сами рыдали, не вытирая слез, держась за мужей, захмелевших от водки и от горя.
В толпе шли и Гамаи, взявшись крепко за руки, чтобы не потеряться. Уже миновали околицу и вышли в поле, шагали мимо нив ржи и пшеницы. Шумела колосьями безбрежная нива, а хлеборобы забыли о жатве, о косах и граблях, уходили куда-то далеко от родных наделов. Шли задумчивые, под аккомпанемент печальных рыданий. Шли и думали: возвратятся ли домой, чтобы, расправив плечи, размахнуться косой и пойти, пойти ручка за ручкой, кладя на стерню золотые стебли с тучным колосом. Не один мысленно брел вдоль поля со спутницей косой и слышал, как врезается она в желтую стену зрелой ржи — дси-дси-дси-дси.
Шли, витая мыслями где-то далеко. И вдруг услышали, как Григорко Гамай, приблизившись к своему наделу, исступленно закричал:
— Земля моя! Рожь моя! Прощайте! Я вернусь! — и упал на обочину дороги, целуя жесткие стебли, припадая губами к тяжелым колосьям.
Запорожане растянулись вдоль дороги длинной колонной.
Увидев, что остановился Григорко, завтрашние солдаты, словно по команде, бросились к тем участкам, где проходили в этот момент. Более двухсот мобилизованных упали ниц перед созревшими рожью и пшеницей, ячменем, овсом. Целовали колосья и срывали их себе на память, старательно завертывали в чистые тряпочки, заменявшие им платочки, и прятали в карманы.
Староста ехал впереди на бегунках. Остановил своего коня, оглянулся, сошел на дорогу и терпеливо ждал. В эту минуту сердце его тронула жалость к своим односельчанам, из которых многие не вернутся домой, чтобы поклониться родной земле.
Когда после долгих мытарств Пархом все-таки вернулся в Юзовку, становой пристав сразу вспомнил о нем. Получив донос от своих прислужников о возвращении прокатчика Гамая, он прежде всего поинтересовался, где тот остановился. Узнав, что Гамай женится на дочери рабочего завода Боссе, успокоился. «Пускай играет свадьбу, — потирал от радости руки. — Значит, повзрослел. Будет послушным. Набегался. Теперь возле жены сидеть будет. Одним бунтовщиком станет меньше».
Сыграли скромную свадьбу.
Пригласили ближайших родственников семьи Кагарлыков. Перед свадьбой отец Сони Николай Пафнутьевич сказал Пархому:
— Послушай, мой долгожданный зять! — Он особенно подчеркнул слово «долгожданный», потому что Соня долго ждала своего Пархома, целых шесть лет! — К тебе присматривается полиция, да и меня на заводе не очень-то любят. Кроме того, ни у меня, ни у тебя нет лишних денег. Давай устроим скромную свадьбу. Кто у тебя тут есть из родственников или знакомых?
— Не так много. Я думаю пригласить одного земляка. Очень хороший человек, на шахте номер пять коногоном работает, Максим Козырь, дразнят его «цыганом».
— Так это хорошо! Коногон, простой рабочий. Тихий, смирный?
— Тихий.
— Значит, полиция не придерется. А водку хлещет?
— Так же, как вы и я.
Николай Пафнутьевич еще больше обрадовался. На его широком лице, обрамленном русой бородой, засияла улыбка.
— Значит, с твоей стороны будет один. Ну а с нашей — мой брат с женой и сестра с мужем. Немного будет гостей, но зато все самые близкие, самые родные.
Хотя и Пархом был против шумной и многолюдной свадьбы, но все же спросил:
— Николай Пафнутьевич, а ваши соседи и знакомые по работе не обидятся, что их не пригласили?
— Не обидятся! — заверил старый Кагарлык. — Я кое-кого еще приглашу, только не пьяниц, что любят в рюмку заглядывать.
Максим Козырь понравился всем присутствующим на свадьбе. Действительно, он был похож на цыгана. Среднего роста, смуглый, с орлиным носом на продолговатом лице и с непокорным, цвета вороньего крыла чубом, все время спадавшим на лоб, Максим оказался отличным танцором. Но больше всего поразил гостей своим пением. Просто очаровал песней «Ой, ты дивчино, горда та пишна», которую спел под аккомпанемент гармонии, на которой хорошо играл отец невесты; он пел приятным тенором с таким вдохновением, что гости попросили его повторить.
Среди гостей, что пришли без приглашения, затесался один полицейский соглядатай, однако за время свадьбы он не заметил ничего подозрительного: из присутствовавших никто не сказал ничего непристойного, а поднадзорный Гамай вел себя как подобает порядочным людям. Полицейский окончательно успокоился — значит, Гамай поумнел, стал рассудительным, да теперь и жена приберет его к рукам…
После свадьбы Максим Козырь, который был моложе Пархома на пять лет, еще больше привязался к своему земляку.
— Я рад, что теперь буду чаще встречаться с тобой, — говорил Максим Пархому, когда они пили пиво у киоска на Первой линии. — Понимаешь, теперь, после свадьбы, на которой я был у вас, могу свободно приходить к тебе как земляк и знакомый.
— Я тебе говорил, Максим, — сказал Пархом, — можешь приходить, только остерегаться надо.
— Я это знаю! — блеснул глазами Максим. — Меня никакая полиция не поймает. Вот! — Он скрутил фигу. — Вот что господину становому приставу!
— Не слишком хвастайся, могут так схватить, что и не опомнишься, откуда беда свалилась.
— Не схватят, Пархом. Я как вьюн выскользну из рук! — захохотал Максим.
— Ну и хвастливый ты, Цыган!
— Вот увидишь, Пархом.
Они свернули с Первой линии на рынок, перешли через железнодорожный переезд.
— Здесь нет людей, пока мы дойдем до дома твоего тестя, хочу тебе кое-что рассказать… Слушай, Пархом. Мне сказал знакомый шахтер, дед Борис. Ты же знаешь его? — вопросительно посмотрел на Пархома.
Пархом удивился:
— Знаю, а что он тебе сказал?
— Не скрывай от меня, Пархом. Я все знаю. Ты — большевик! — понизив голос, проговорил Максим.
Пархом даже остановился, пораженный такой «новостью». А Максим продолжал:
— А ты меня не ругай, Пархом. Я такой, как и ты. Только я еще не вступил в партию. Еще молодой и сопливый. И ничем себя не проявил. А где я проявлю? Это не пятый год, и восстаний нет. Но я знаю, что в Юзовке есть члены партии больше-виков… И я непременно вступлю в эту партию, только, к сожалению, осенью меня призовут в армию. Мне уже пошел двадцать первый год.
— А знаешь что, Максим, — сказал Пархом, подумав, — хочешь, я дам тебе совет как старший?
В беспокойных глазах юркого Максима засветился огонек, и он внимательно посмотрел на Пархома.
— Вот что, Максим, — сказал Пархом. — Когда повстанцы дрались с войсками в Горловке, у нас был начальником штаба Никифор Колотушкин… Хотя мы тогда и не победили, но если бы не он, то у нас было бы намного больше потерь. Никифор Колотушкин во время службы в армии был унтер-офицером.
— И что? — не утерпел Максим.
— А то, что Никифор немного разбирался в военном деле и знал, как надо командовать и нападать на противника.
— И… — хотел что-то сказать Максим, да только махнул рукой.
— Так вот про твое «и». Ты смышленый и смелый парень. И еще скажу — энергичный товарищ… Коногон наш боевой! Говорят, ты и в шахте поешь?
Максим довольно улыбнулся, ободренный похвалой, и тотчас задиристо ответил:
— А что? Слезы проливать под землей? Пою!
— Ты интересуешься всем, что делается в нашей Юзовке…
Недослушав, что ему хотел сказать Пархом, нетерпеливый Максим быстро прошептал:
— Интересуюсь! А что? Как выберешься из шахты на свет божий, так сразу хочется узнать, как люди живут.
— Какой ты шустрый, парень! — похлопал его по плечу Пархом.
— Если будешь тихоней да слабаком, заклюют и затопчут, — бойко ответил Максим. — Ты знаешь, я ведь большевикам сочувствую, — заговорщицки подмигнул он. — Поэтому, земляк, и я присматриваюсь к тебе.