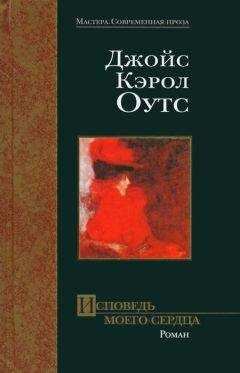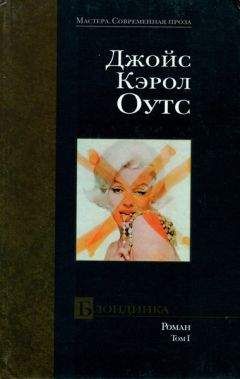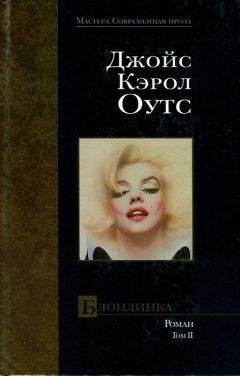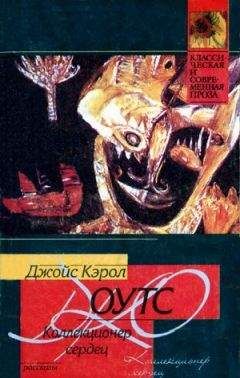Сага о Бельфлёрах - Оутс Джойс Кэрол
Проклятия
Словно проклят был клавикорд из вишневого дерева, облицованный дубом, который по заказу Рафаэля изготовили для его супруги Вайолет, с клавишами орехового дерева, с орнаментом из золота, гагата и слоновой кости — на этом удивительной красоты инструменте не мог играть никто (даже Иоланда, много лет бравшая уроки игры на фортепиано). Нет, клавиши не застревали, звук был чистым, и назвать клавикорд расстроенным тоже было нельзя. Однако всех, кто садился за него, охватывало ощущение его враждебности: точно клавикорд не желал, чтобы на нем играли, не хотел становиться источником музыки. Или, возможно, прятал антипатию к Бельфлёрам. «Надо продать этот гроб, или отдать кому-нибудь, или хотя бы переставить в другое помещение, — сказала как-то Лея, когда еще пробовала играть на имеющихся в усадьбе инструментах, — у него отвратительный звук. Такой… злобный». На это ее свекровь, просто закрыв крышку клавикорда, ответила: «Лея, дорогая, это клавикорд Вайолет. Он такой красивый, что жаль будет оставить комнату без него». И инструмент остался на прежнем месте.
И сочные озорные поцелуи касались губ обитателей усадьбы в самые непредсказуемые моменты. Однажды, когда Плач Иеремии засыпал, лежа на расстеленной на полу перине, которую позволила ему взять Эльвира (она прогнала его из супружеской кровати на пол, запретив при этом ночевать в другой комнате — чтобы родные не прознали об их размолвке), и сбитый с толку этими поцелуями, возликовал, ошибочно рассудив, что жена простила его и призывает не только обратно в кровать, но и в свои объятия. В другой раз это случилось с тридцатилетней Корнелией: она заперлась в мрачной библиотеке Рафаэля наедине со своим сводным братом, пресвитерианским священником из общины Онайды, разложив перед собой на столе записи (она вела их, как правило, поздно ночью), в которых обвиняла Бельфлёров (этих ужасных людей, в чью семью она попала по чистой неопытности) в ужасных обидах, вульгарности и невероятной жестокости. Ей достался не один поцелуй, а множество: они игриво покрывали ее лицо, и плечи, и грудь, так что несчастная, растерянная женщина, доведенная до истерики, потеряла сознание. Однажды их жертвой стал Вёрнон: в любовном забытьи он бродил по холму над озером, сцепив руки за спиной и опустив голову, бормотал преисполненные страсти строки: О Лара, любовь моя, о Лара, душа моя, отчего дремлешь ты в объятиях другого… — и если бы не вихрь поцелуев, то Вёрнон оступился бы и, пролетев пятьдесят футов, свалился в озеро, но они, сердитые и злые словно пчелы (сперва бедняга Вёрнон решил, будто это и есть пчелы), привели его в чувство.
И сапфировое кольцо, подаренное шестнадцатилетней Делле на день рождения бабушкой и дедушкой и однажды ночью соскользнувшее с пальца, чтобы спустя какое-то время обнаружиться в яйце коричневой курицы, которое разбила жена одного из батраков, работающих возле Черного болота. И Белонос — гнедой жеребец юного Ноэля (которого тот купил на конезаводе на все деньги, полученные за много лет на дни рождения и Рождество, и объездил самолично, проявив большую отвагу и упорство): жеребец был явно способен видеть зловещих, невидимых другим существ, он шарахался от них, и отучить его от этого Ноэль так и не смог; а необъяснимые шорохи в некоторых комнатах, словно ветер играет растущей в поле кукурузой; а запах рыбы, густой и неискоренимый, исходящий от расшитой алтарной завесы французской работы пятнадцатого века, купленной Рафаэлем во время одной из его нечастых поездок в Европу и считавшейся — ведь за нее на лондонском аукционе выложили немалую сумму, так? — изумительно красивой. Разумеется, немало крови Бельфлёрам попортили и «мертвые души» в качестве избирателей (за пределами семьи они стали предметом язвительных насмешек в оппозиционных газетах) в некоторых областях Нотоги, а также Эдена, Клоусона, Каллы и Джунипера — из-за их голосов (показавших незначительный перевес) пошла прахом третья и последняя предвыборная кампания Рафаэля Бельфлера…
Давным давно горные духи (духи отличаются исключительным своенравием) так осадили Иедидию, что он вскоре привык к их присутствию и разговаривал с ними — отчасти нетерпеливо, отчасти нежно, как разговаривают с докучливыми детьми. Однако его по-прежнему преследовали живые, тревожные и в высшей степени правдоподобные сны, в которых он ложился в постель с юной женой собственного брата, и сны эти причиняли ему беспрестанные мучения. (Так продолжалось всю его жизнь, сто один год.) А в сотнях миль от него, в Бушкилз-Ферри, жене Луиса Джермейн досаждали навязчивые сны щекотливого свойства, в которых ей являлся ее деверь (она не видела его уже много лет и почти забыла), отчего однажды ночью она, сама того не желая, закричала: Иедидия! — и разбудила Луиса, и тот стал трясти бедняжку так, что у нее едва глаза на лоб не вылезли. Феликс — то есть Плач Иеремии — всю жизнь жаловался, что его чаще мучают вещи земные, а не какие-то духи и что он единственный из Бельфлёров, познавший полный крах; после того как лисы пожрали друг друга, он признался, что еще накануне его посетило ужасное предчувствие: он знал, что они с партнером потеряют все деньги, вложенные в этих злобных маленьких тварей, но (говорил Иеремия равнодушно) воспринял это со смирением. Разве кто-то способен одолеть злой рок, поразивший тебя много лет назад, когда твой собственный отец если и не открестился от тебя, то лишил таинства крещения? «Вы говорите о проклятых вещах, — грустно сказал Иеремия, — а как быть с теми, кто сам представляет собой проклятие, только в человеческом облике?»
И Иоланда — она одновременно явилась во сне нескольким родственникам: Гарту, Рафаэлю, Виде, Кристабель, Вёрнону, Ноэлю, Корнелии, Гидеону, Лее, и, по всей видимости, Джермейн (во всяком случае, когда девочка проснулась, в ее лепете слышалось имя «Иоланда»), и, разумеется, Юэну и Лили; Иоланда в длинном черном платье с широкими рукавами, наподобие пеньюара, стоит, уперев руки в талию и откинув голову, так что ее чудесные пшеничного цвета волосы волной ниспадают на спину, а лицо грустное, но раскаяния в нем нет — она вовсе не сокрушается, и поэтому на следующее утро за завтраком ее отец, с силой ударив кулаком по столу, заявил: «Ну точно, она сбежала с мужчиной, я знаю! Нарочно, мне назло! И она жива — это очевидно!»
Крохотные капельки крови в налитом детям молоке и миске со сливками — они появлялись на протяжении нескольких дней после того, как однажды после многочасового визга ливанский кедр упал под натиском бензопилы (хотя вековое дерево и было, без сомнения, очень красивым и близким сердцу старшего поколения Бельфлёров, однако ландшафтный дизайнер, нанятый Леей в Вандерполе, настоял на том, чтобы дерево спилили: оно занимало чересчур много места в саду, и его требовалось подпирать уродливыми досками), и напряжение, повисшее в доме, когда в нем поселился дух этого исполинского дерева — это неприятное время закончилось лишь спустя несколько недель, когда ноябрьская буря наконец прогнала дух прочь. Но избавлением это едва ли назовешь, потому что буря принесла неприятности похуже.
Существовало, конечно, бесчисленное количество других досадных вещей, более или менее загадочных: заколдованные чуланы и ванные комнаты, зеркала и комоды, и даже целый угол будуара Эвелины, и покрытый пылью барабан, обтянутый кожей Рафаэля — время от времени от издавал глухой стук, словно невидимые пальцы беспокойно постукивали по нему; и шелковый зонтик лавандового цвета, выцветший и потрепанный, по слухам, принадлежавший Вайолет — он перекатывался по полу, словно кто-то сердито пинал его ногой — но неужели все это стоит воспринимать серьезно? В конце концов, как сказал Хайрам со своей фирменной скептической улыбкой, «эти нелепые духи питаются нашим легковерием. Если мы бросим верить в них, если мы, вся семья сообща, прекратим верить… вот тогда они утратят силу!»
Кассандра
Как-то ноябрьским днем, солнечным и прохладным, Лея принесла на воспитание Бельфлёрам еще одного ребенка — девочку, чье происхождение осталось тайной.