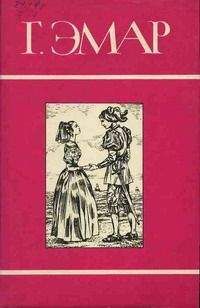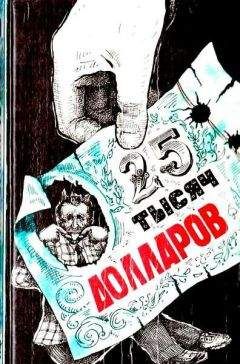Аркадий Савеличев - А. Разумовский: Ночной император
— Вот это царская жизнь! — под руками фрейлин усаживаясь на диване, порадовалась теплу и уюту Елизавета.
Тут не было нужды соблюдать свой чин. Кажется, она не имела ничего против ночного приключения. Ну, сгорели четыре тысячи платьев? Так ведь она все равно не любила дважды надевать одно и то же. Туфельки, тоже целый сундук, в огне запропали. Эка беда! Разве в ее империи перевелись добрые сапожники? И разве англицкие да французские корабли больше ничего не привозят?
В такие минуты она забывала, что сама же и издала «Указ против роскоши».
Следующим днем, когда Елизавета изволила встать после бессонной ночи, Алексей без тени сомнения спросил:
— Моя господыня, изволишь приказать, чтоб закладывали лошадей?
— Куда? — вскинулась она после бессонницы потемневшими глазами.
— В Петербург, разумеется. Головинский дворец сгорел, в Кремле грязь невозможная, а в Измайлове или Коломенском прилично не устроиться императрице, да в придачу еще с малым двором.
Оказывается, она спала на его руке, а сон совсем другой видела.
— Малый двор пока поживет в Немецкой слободе. Не велики еще государи! Что касаемо меня, друг нелицемерный, так заруби себе на черкесском носу… — Она игриво щелкнула его по этой самой черкесине. — Из Москвы я не отъеду пока. Через четыре недели снова со всем двором объявлюсь в Головинском дворце. Иль я не самодержица?
— Самодержавная господыня.
— Пусть так, граф Алексеюшка. Поди, заждался барон Черкасов?
— С утра пребывает в приемной.
— Позови его, а сам отдохни от трудов тяжких…
К ней уже вернулось прекрасное настроение. Алексей с удовольствием отдал на заклание кабинет-секретаря Черкасова, прекрасно зная, что следующим будет канцлер Бестужев.
К вечеру, торопливо выходя от государыни, Бестужев по пути заскочил, чтоб поплакаться.
— Вот именной Указ, — потряс он бумагой, написанной рукой барона Черкасова, но с многозначительной подписью: «Елизавет». — Возможно ли сие в такие сроки? Четыре недели! Слава Богу, персоной-ответчиком будет сенатор Шувалов, но ведь спрос-то все равно с меня.
Когда Елизавета скакала в Москву, за ней той же прытью скакал и Сенат. Так что в этот же день, вернее, уже вечер и решение вышло: «Как можно скорее на ямских и уездных подводах выслать из Ярославля 300 плотников, 70 каменщиков, 30 печников. Такоже из Галича выбрать 200 наилучших плотников. Платить по 25 копеек на день, а лучшим по 30. Для перевозки леса с Московского уезда собрать с каждых ста душ сани с роспусками…» Не остались в стороне ни Кострома, ни Владимир. Шум-гром от Москвы пошел по всей России.
Пока императрица тешила свое сердце зимней охотой в любимом Перове, Головинский дворец поднялся из пепла. Как и приказано было: в четыре недели!
III
Все грозные, смешные, капризные, даже разбойные дела и совершались, кажется, под звук охотничьих рогов.
Перово.
Измайлово.
Царское Село.
И конечно же Гостилицы.
Как без Гостилиц? Хоть зимняя охота, на волков да медведей, хоть летняя, на птицу водную и особенно боровую, тетеревов да глухарей.
Императрица скакала, как и водится, впереди: стремя в стремя — обер-егермейстер Алексей Разумовский. Распоряжения егерям были отданы, всяк из громадной охотничьей свиты, включая последнюю борзую, знал свое место. Просеки, где неслась основная, императорская, кавалькада, были расчищены. Справа и слева трубили рога. Заходились радостным лаем сразу несколько свор борзых. Волчья, тем более медвежья, охота не для женских глаз — гнали лисицу, и конечно же не одну. Ах, как любила Елизавета рыжий стремительный бег! Ее волосы, не знавшие пудры и ничем не прикрытые, и сами лисьим заревом отливали, хвостами струились в лад скачущего Фридриха — так с милой издевкой звала своего солового жеребца.
Дамское седло не мешало ей выбивать искры под копытами Фридриха. Вороной Дьявол Разумовского мог бы, конечно, оставить Фридриха на хвосте, но хозяин этого не позволял. Не только потому, что помнил несчастную Лопухину, вздумавшую опередить императрицу, — сдерживала и важность разговора, начатого еще в самом начале гона. Сопровождавшие императрицу пажи деликатно держались на расстоянии: разговор Елизаветы с «другом нелицемерным» никто не должен слышать.
— Не знаю, как и продолжать, Алексеюшка…
— Ты-то, Лизанька, не знаешь?
— Да ведь опять о наследнике! Думай. Старайся…
— Что же мне — самому стараться?
— А ты зубы-то не скаль. Знаю, что хороши. Лучше скажи: позван ли на охоту новый камер-юнкер великой княгини?
— Граф Сергей Салтыков?
— Да кто же еще! Ведь он, поди, без ума от нее?
— Не стану скрывать, Лизанька: ум потерял.
— Так чего же лучше? — Она прижала Фридриха так, что ноги ее, свисавшие на левый бок, оперлись о стремя Дьявола.
Алексей все понимал с полуслова, а это и по блеску ее загоревшихся глаз понял. Надо же, что ему выпадает на долю!
— Меня пажи проводят домой, а охоту-то не срывать же из-за меня. Надеюсь, друг мой, ты понял, что дело это государево?
— Как не понять, господыня. Никогда не занимался сводничеством, но ведь…
— Потребно, Алексеюшка, потребно. Авось великий князь воспылает ревностью и сам совершит богоугодное дело, ибо сказано: плодитесь и размножайтесь. А не воспылает — так грешно ли помочь ему? Сергей-то Салтыков — пылает?
— Огнем исходит! Боюсь, не начался бы пожар почище головинского!
— Вот-вот, друг мой. Я возвращаюсь в твои милые Гостилицы. На тебя уповаю, на кого же более?
Она круто поворотила Фридриха и поскакала обратно по просеке, которая выводила к самому крыльцу Гостилиц. Пажи, ни о чем не спрашивая, повернули за ней.
И прекрасный парк вокруг Гостилиц, и вот эти охотничьи просеки — все рукотворное. Алексей мог гордиться своими хозяйственными распоряжениями. Но сейчас ему было не до гордыни. Елизавета не шутила, давая ему такое деликатное поручение.
Великую княгиню и ее камер-юнкера он нашел на другой, параллельной просеке. Ее охота пока не захватывала; лай гончих и борзых был в другой стороне.
Не выскакивая до времени на просеку, остановился под развесистой елью. Дьявол был умным жеребцом, не ржал. Да он и похлопал его по морде, давая знать: стой тихо!
Граф Сергей Салтыков и Екатерина ехали стремя в стремя, как они недавно с Елизаветой. Сердилась Елизавета, что великая княгиня ездит в мужском седле, а потом и вовсе запретила такое. Стыдись, мол, голубушка! Екатерина устыдилась… и доверительно попросила обер-егермейстера заказать такое седло, чтоб можно было скакать и по-мужски, и по-женски.
Он проникся этой доверительностью и седло такое заказал. В присутствии государыни Екатерина смирненько свешивала ножки на левый бочок своей гнедой кобылки, а стоило государыне скрыться из виду, как правую ножку перекидывала через седло, выпускала сокрытое стремя — и скакала как оглашенная! Она даже костюм особый изобрела: и платье, и кофта, и панталоны — все вместе. Пошито заодно, а внизу широкий подол был прорезан, на две стороны прошит до самого паха, так что кидай ножки хоть справа налево, хоть слева направо; ничего шелково-нательного не мелькнет. По-французски ли, как ли, и назвала: комбинезон.
Сейчас, хоть и не было государыни, она ехала бочком, так что коленки касались красных охотничьих панталон сопровождавшего ее камер-юнкера. Лошади брели нога за ногу. Куда им торопиться?
У них, видимо, давно шел горячий разговор. Екатерина, не отстраняясь от лошади своего камер-юнкера, тем не менее гневно выговаривала:
— Не стыдно ль, граф? Вы забываетесь. Я жена наследника престола, и я его…
— Не любите! Я знаю.
— Не имеет значения, граф. Я перед Богом обещала…
— А предо мной, ваше высочество?
— Да вы ведь тоже женаты, граф. Сказывали, по любви?
— Э, пустяки! Чего не сотворишь под горячую голову!
— Но ведь она и сейчас у вас горяча?
— Слишком даже, но…
— Стыдитесь, говорю я. Не жалеете меня — хоть жену свою пожалейте.
— Мы обоюдно осознали свои ошибки. Нельзя принудить сердце любить то, что отлюбилось. Что касаемо вас, ваше высочество…
— Ах, оставьте, граф! Скольким вы говорили такие слова?..
— Вам первой. Вы мое божество, ваше высочество!
Алексей Разумовский, граф, камергер и к тому же обер-егермейстер, распорядитель всех императорских охот, стоял под елью, моля своего Дьявола: «Ну, братец, только не кричи!» Куда ему теперь деваться? Малейшее движение будет заметно.
Сергей Салтыков и Екатерина, слава Богу, проехали и помаленьку удалились. Последнее, что он слышал, было настойчивое Салтыкова:
— Я не оставлю вас, пока вы не скажете мне, что любите… Ведь любите, да?