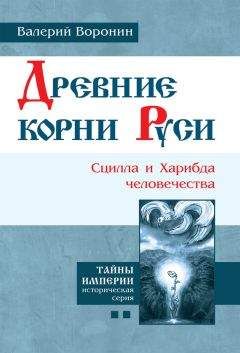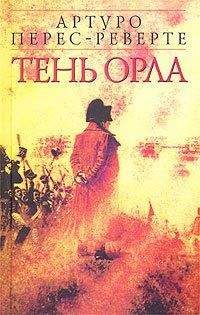Николай Платонов - Курбский
Он просыпается еще раз: никто его не звал, он слышит глухой топот усталых лошадей, скрип, чувствует встряхивание на ухабах, вдыхает запах лошадиного пота, кожи, соломы, меховой полости и от жалости к себе зажмуривается безнадежно. Ему становится холодно, он замечает, что пальцы ног совсем онемели, бесчувственны, а дорога все вьется к ледяному осколку на краю облачной равнины, и он зовет:
— Емеля! Емельян!
Кучер отворачивает ухо шапки, полуоборачивается.
— Останови, ноги застыли!
— Потерпи, князь, вон справа хутор завиднелся. Заедем — ототрем.
На хуторе ему оттирают водкой ноги, поят кипятком с медом, и он засыпает прямо за столом. Его кладут на лавку под образа: здесь живут арендаторы греческой веры, старик, его жена и сноха. Совсем стихло, квадрат окна лежит на полу, незаметно перемещается выше — на грудь спящему Курбскому, потом еще выше — на его лицо. Лунный свет углубляет глазницы, морщины от ноздрей к углам сомкнутого рта. Изба дышит, храпит, бормочет в усталости. Бесстрастное незнакомое лицо, прекрасное и жестокое, как у Дианы-охотницы, смотрит на него зеленоватыми глазами, и он хочет уйти, потому что ей неведома жалость. Он видел ее когда-то во дворце Сигизмунда-Августа — мраморную статуэтку на инкрустированном столике, но сейчас она ожила и пришла за ним. Это и страшно, и соблазнительно, но он замечает, что уголки ее губ приподнимаются, вздрагивают, словно от тайного торжества, и тогда в нем остается только страх — он узнает в ней Марию Козинскую, то выражение, с которым она стаяла в комнате, куда он случайно забрел в имении Константина Острожского.
Курбский широко открывает глаза, видит лунный квадрат на срубе над своей головой и начинает шепотом читать заклинание-молитву, напрягая все силы, потому что лунные лучи в квадрате делаются шершавыми, как доски, которыми крест-накрест забита знакомая дверь. Перед этой дверью он стоит обнаженный и жалкий; из-под двери морозом смывает всю преступную прелесть, и он спрашивает с тоской: «Доколе же мне терпеть еще, Господи?»
На хуторе сделали дневку, для князя освободили дом, завесили стены тканью, постелили шкуры, протопили до жара. Курбский, изможденный, ослабевший, лежал лицом в потолок: не то дремал, не то молился. Нет, уснуть он не мог, забыть — не мог, не было покоя даже здесь…
Наконец он решился испробовать давно испытанное — перечитать свое сочинение, выношенное годами, искреннее, переданное людям во спасение. Он сел, велел подложить подушки повыше и подать дорожный ларец с бумагами. Из ларца достал свое заветное сочинение «История восьмого собора», копии писем к Константину Острожскому, в которых обличал его в недостойной слабости — Константин не только читал еретика Мотовила, но и осмелился писания его прислать! — наконец неоконченный ответ Семену Седларю, который спрашивал, что думал Иоанн Златоуст о Чистилище. Для ответа Курбский переводил с латинского, перевод свой хотел послать Седларю как «подарок духовный» и сейчас, перечитывая, кивал сам себе с удовольствием: «…Познал я в тебе искру, возгоревшуюся от божественного огня… Некие раскольники упрямые, опираясь на Оригена, утверждают, что огонь Чистилища конечен, то есть Геенна конечна, что противоречит учению Христа, хотя они в доводах своих еретических приводят слова апостола Павла к коринфянам…» В конце Курбский просил Седларя не показывать его письма схизматикам, чтобы не вступать с ними в бесполезные споры, в которых еретики искусны софизмами и ложными силлогизмами.
Курбский откинулся на подушки, прикрыл веки, лоб его порозовел, на губах блуждала улыбка. «Как епископ наставлял я их всех, годами неподкупно обличал ересь, — сказал он себе, — вот в этом письме одна истина… Отдохну и обязательно допишу». Он начал сочинять продолжение, но привычной легкости слога не стало, слова были правильны, строги, а какого-то смысла в них не хватало чуть-чуть. Он полуоткрыл глаза, лоб наморщился, взгляд искал, не видя, ответа за оконцем, где предвечерний ветер очистил небосвод; нечто вроде пятна туманного сгущалось там, точно упала темная капля на золотистый закат и все испортила: чистоты не стало. «Призван был сюда наставлять их всех!» — упрямо шептали губы, но это не утешало сегодня. Он вспомнил, как они раз говорили с Артемием Троицким о стремлении Марка стать дьяконом, и Артемий сказал задумчиво: «…Иные хотят проповедовать ради радости обличения, а не ради любви к ближнему, но сами того не понимают». Курбский долго, нахмурясь, вглядывался в закат, наконец шевельнулся, сказал себе, как обрубил: «Ну и что, раз проповедь об истине!» Но брови его не разошлись, рука бессильно лежала на одеяле. Чего не хватает в его слове? Он не мог понять, но слово точно омертвело, хотя на вид было прежним — правильным и честным.
Новый день, опять запрягают, едут, и нет этому конца… Он сидит за столом, накрытым знакомой холщовой скатертью с крестиками. На скатерти перед ним стоит миска со спелой земляникой, политой молоком, а над миской зависла желто-полосатая оса. Она тонко и зло жужжит, и он боится пошевелиться, хотя ему очень хочется земляники. Оса садится на край миски и ползет вниз, к землянике, и тогда он с размаха бьет ее ложкой, разбрызгивая по столу молоко и ягоды, а она взлетает и висит над его макушкой, сверлит жужжанием — вот-вот ужалит! «Сиди не двигайся, Андрюша! — говорит голос матери. — Не двигайся, и она тебя не укусит!» «А хоть бы и укусила — что за беда!» — говорит другой, мужской голос с улыбкой, и еще миг он видит их всех на терраске за столом — мальчика в желтой рубашке, мать, отца, солнечные пятна на скатерти, но чей-то оклик врывается из другого мира: «Куда, Панове, едете?» И бас Емели: «В Ковель» — и хрустальный куб с летней терраской и земляникой в миске удаляется, уменьшается, а Курбский садится, растирая лицо ладонями. День, мягко светятся сугробы под заволоченным солнцем, вдали кирпичная стена знакомого монастыря и голые ветлы на берегу реки — Ковель.
В городе Курбский заехал к старому пану Мышловецкому — круглоголовому седому судье. Он почти не изменился — был так же немногословен, хитер. Первая новость, что княгиня Александра уехала с сестрой на богомолье во Владимир-Волынский, оставив детей на нянек, не очень огорчила и удивила Курбского. Но вторая ошеломила: игумен Вербского Троицкого монастыря Иоасаф бежал неведомо куда, захватив всю монастырскую казну, и с ним — два послушника, а по розыску — двое беглых русских стрельцов.
— Слышал я, князь, что ты давал Иоасафу в долг немалую сумму, — осторожно спрашивал — утверждал судья. — Ну плакали теперь твои денежки…
— Да, давал, — рассеянно ответил Курбский. — Но куда ж он мог бежать: на Руси ему не поверят все равно — там всех перебежчиков из Литвы, говорят, кидают в темницу.
— А может, и не кидают… — раздумчиво ответил судья и покачал круглой головой.
Курбский переночевал и наутро выехал в Миляновичи., Он старался не дремать — боялся опять увидеть что-нибудь страшное, мучительное. День был серенький, мягкий, лошади хорошо отдохнули, дорога была знакома до каждого куста, и чем дальше они ехали, тем ему становилось скучнее и как-то никчемнее. Конечно, жена не знала, что он приедет, но, если б и знала, чего ей радоваться? Он не только стар для нее, но и вообще теперь вроде и не муж, не мужчина… Детей он не мог припомнить, особенно младенца сына, — все они казались ему всегда на одно лицо до пяти лет. Тогда он постарался вообразить, что нового напишет, переведет, но бросил.
Версты через две от города дорога делилась: правая мимо сосны с засохшей макушкой вела к имению, а левая через ложок — к реке, к Вербскому монастырю.
— Езжай влево! — неожиданно приказал Курбский Емельяну. Tor натянул поводья, оглянулся. — Ну чего встал — влево, на монастырь, езжай!
И они поехали влево. Курбский, покачиваясь, закрыв глаза, вызвал лицо отца Александра — загорелое, простое, его живые, даже веселые глаза, редкую спутанную бороду, залысины под выцветшей скуфейкой. Жив ли он, цел ли? Розыск начался уже давно, еще когда в Миляновичи заезжал владимирский войт с иезуитом Хмелевским — или Хмелевичем? — а теперь это бегство Иоасафа. Да, немалый урон — денег нет, и друзей почти не стало… Ехать Курбскому сейчас в монастырь, который, конечно, под усиленным надзором властей, было неразумно, но он ехал. Он вез с собой тяжкий груз таких вопросов, которые порой отнимали у него веру. Ответит ли на них беглый запорожец, хоть ныне и монах Александр? Вряд ли человек способен на такие вопросы ответить. Сам себе он, хоть и знает Писание много лучше иных людей, даже и монашеского чина, ответить не смог. Он приехал в монастырь под вечер во вторник первой седмицы Великого поста, в час, когда в храме звучал печальный речитатив: «Душе моя, душе моя, восстани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися: воспряни убо да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй».