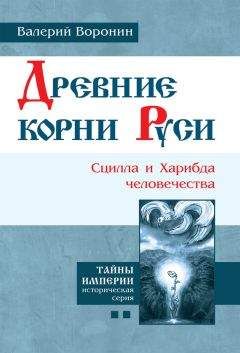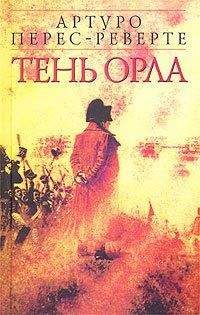Николай Платонов - Курбский
— Так вот, — говорил Полубенский еще тише, — завтра я выступаю под Ржев, но мы Ржев минуем — и прямо на Старицу. Подарим ему отряд сабель во сто и свои повинные головы. Он простит!
— Может, он и простит, да я ему не прощу, — сказал Курбский спокойно.
Он все понял, переборол себя, проглотил гадкую слюну и лег на подушку, уставился в потолок. «Тебя подослал Замойский еще раз меня проверить либо погубить: или сбегу, или должен на тебя донести. А если ни то, ни другое, то… Так и так — конец».
— Подумай, князь, — сказал Полубенский, вставая. — Слова с тебя молчать не беру, потому что знаю, что в тебе благородная кровь. Но подумай до завтра. Не то поздно будет — не обижайся тогда.
— Где мне бежать, — ответил Курбский, — я и ходить-то не могу.
Полубенский вышел. «Что бы я ни сделал, канцлер не поверит мне до конца никогда. И король тоже. Что ж, это удел всех перебежчиков. А Полубенский недаром один вернулся из плена: он служит и Ивану и Баторию одновременно».
Он смотрел на то место, где только что было лицо Полубенского, и никак не мог понять этого лица: оно колебалось, как туман, меняло очертания, то приближалось, то съеживалось, и у него не было взгляда, как у слепого. «Плохо ты придумал, — говорил ему Курбский, — никогда Иван не дал бы мне мое княжество, мой удел. Плохо твое дело: рано или поздно казнят тебя или здесь, или там…» Но Полубенский не растворялся, хотя сквозь мерзкий туман его лица просвечивали угли в топке. Курбский отхаркнулся, сплюнул. Он вылез из нагретой постели», надел валенки и, накинув полушубок, встал перед серебряным дорожным складнем. Это был складень отца, а отцу он достался от деда. Он встал и читал молитвы, и, пока читал, почти не вникая в слова, мелькнула мысль: «Надо отпроситься у Замойского съездить в Псково-Печорский монастырь. Это недалеко. Правда, нет там несчастного Корнилия, там новый, царем посаженный шумен, но я повидаю старца Васьяна Муромцева. Сколько мы с ним тихих бесед провели в те годы! Последнее письмо от него, правда, давно было, может, он уже и отошел от этого мира? Но, может, и нет…»
В этот день привезли первое письмо из дома от Александры. Все письма шли через Вильно и прочитывались в канцелярии гетмана. Александра детским круглым почерком писала о том, что все здоровы, только у младенца Димитрия болел животик, а еще чтобы он привез ей из богатого города Пскова парчи на платье и кружев, если найдет, голландских, — говорят, Псков со всем светом торгует; а еще желает ему здравия и победы. Было письмо и от Ивана Мошинского, который должен был сидеть наместником в Ковеле, но, как писал он, ковельские ратманы и войты не признали его полномочий, потому что нет жалованных королем Сигизмундом грамот — их похитила Мария Козинская. Городские власти постановили до возвращения грамот никого наместником Ковеля не признавать и написали о том Стефану Баторию, а его, Ивана Мошинского, из замка проводили.
Все это раньше разгневало бы и разбередило, а сейчас было почти безразлично.
Снег все сыпал и сыпал каждый день. Курбский по утрам выходил иногда на зады деревни, смотрел на далекую еловую опушку за белым полем, на сонливые тучи с мягким пятном там, где пряталось солнце, вдыхал-глотал морозный пар — жадно, до дна, словно торопился надышаться вволю запахами осиновых слег, соломы, хлева, печного дымка. Мимо через деревеньку шли и ехали люди, повозки, пушки — где-то ниже по реке на высотах поляки укрепляли зимний лагерь, на соседнем обгорелом срубе каркала ворона, потом к ней села другая, и обе они слетели, низко поплыли, махая крыльями, через дорогу. Что они там нашли?
Курбский старался ни о чем не думать: ночами и так неотвязно кружило в голове, гнало сон ожидание: вот застучат на крыльце шаги, войдут гайдуки Замойского, возьмут под стражу. Не так ли ждал он подспудно каждую ночь в той, другой жизни, когда сослали Адашева? Кто-то сказал, что, по слухам, великий князь Иван Васильевич из Старицы уехал в Александрову слободу.
Теперь, когда Курбский думал о нем, вырастало перед ним нечто огромное и нечеловеческое, вроде тучи, севшей на дикое поле и застывшей, как гигантский стог из гнилых и засохших не то стеблей, не то каких-то волокон. Это было нечто столь же безликое и неумолимое, как моровое поветрие, и оно являлось из глубин некоего бреда, а кто бредил, страшно было домысливать. Но когда однажды запыхавшийся шляхтич, ротмистр из полка Кирилла Зубцовского, вошел и объявил с торжеством, что пришло точное известие об убийстве Иваном Васильевичем старшего сына, царевича Ивана, Курбский ясно и резко представил лицо царя, хотя не видел его вот уже восемнадцать лет. «Как убил? — спросил он, веря, но не понимая. — Где? Чем?» И когда узнал, что в тереме посохом-копьем в висок, лицо царя стало совсем живым: искаженное и постаревшее, со вздутыми на лбу венами и мутными, выпученными глазами, лицо, на миг именно от безумия своего ставшее человеческим, страшным и жалким. «Люди Гарабурды-посла рассказывали, что пришло письмо об этом, говорят, Иван-князь катался по полу, рвал волосья и проклятия на себя призывал!» — рассказывал с упоением шляхтич. Но Курбский не поддержал его почему-то, смотрел мрачно в серое окошко, по которому шуршал снег. Только ночью наедине с собой он сполна почувствовал эту недобрую радость, которая поднималась из глубин прошлого; он понял, что теперь Иван никогда не избавится от угрызений совестя. Все себе прощал, а этого не сможет. «Не избавишься! — вслух сказал Курбский черному потолку, — Сыноубийца!»
Мороз потрескивал по срубу, сыпались ледышки по оконцу, шуршали в ушах, так в песочных часах, отмеривали сроки. «Сыноубийца!» — улыбаясь, повторял Курбский, глядя в темное лицо на потолке, и внезапно у него сжало затылок: он смотрел словно в зеркало мутное на самого себя, да, на свое отекшее, нездоровое лицо с черными подглазьями и сединой в бороде, смотрел и повторял тупо: «Сыноубийца!»
Он написал коронному гетману Яну Замойскому просьбу отпустить его в Псково-Печорский монастырь на неделю, но не получил ответа. Он послал за Полубенским, но тот не пришел. «Они не могут судить меня без королевского указа и без решения сейма, но заковать меня они могут. Так что же они медлят?!»
Наступил день, когда слуга-отрок доложил, что приехал гонец от верховного гетмана, и угрюмый седой гайдук огромного роста вошел, пригибаясь, в избу. Он молча вытащил из рукава пергамент, подал. Это был приказ князю Курбскому ехать в его владения в Ковель и набирать к апрелю новую хоругвь кавалерийскую в двести сабель, не менее, а оставшееся у него от полка передать под начало Александра Полубенского. «Доложи гетману, что завтра я выезжаю», — сказал Курбский, покраснев от радости, и, как только гонец вышел, приказал срочно собираться. Верхом он ехать не мог, и его опять, как тогда из Дерпта, везли меж лошадей в носилках из двух шестов с натянутой между ними лосиной кожей. Закутанный до носа в меховую полость, он смотрел в серое высокое небо, с которого медленно спускались редкие снежинки. Он смаргивал их с ресниц, ловил губами.
Он не хотел смотреть ни на что, но боковым зрением видел за рекой обгорелую скалу Покровской башни, выщербленные ядрами, но несокрушенные стены, белеющие кровли и купола церквей и опять длинные стены с щелями в камне, забитыми снегом, заложенный бревнами пролом, в котором остались тела его людей, снежное поле, изъезженное и истоптанное там, где ночью вывозили пушки… Он не хотел, но все видел. А потом они ехали по тылам, мимо землянок, коновязей, костров, телег, закутанных обозников и посиневших часовых у пороховых погребов. Гомонили, спорили, звали, свистели, смеялись, ругались, а кто-то нестройно и серьезно пел по-литовски, и все это — такое знакомое, привычное с юности — он покидал навсегда. За спиной, отставая, оставались лица: зыбкое, студенистое — Полубенского, жестоко-равнодушное — Замойского, красивое, спокойное — Кирилла, «ковельского кастеляна»…
Они ехали к переправе, и вот лошади стригут ушами, осторожно ступают по бревнам наплавного моста, а Курбский смотрит в лицо повешенного — трое висят на огромной виселице у переправы, двое спиной, один лицом к ним. Но это не лицо даже, а исклеванный блин; на повешенных военные кафтаны, сапог нет, волосы седые от снега. Они проехали мимо, позади осталась последняя застава, шум игам огромного лагеря. Его увозили от всего этого, как младенца в люльке, туго спеленутого, закрытого до бровей, и он чувствовал, что Курбский — воин и воевода — остался там, позади, что больше он не наденет брони, что она теперь ему ни к чему.
Качалось небо над головой, плыли мимо еловые макушки, и вот лес только слева, справа поле, а через поле темнеет колея дороги. Она ведет к Псково-Печорскому монастырю, а дальше Дерпт… Курбский решил заехать к иноку Васьяну Муромцеву, прежде чем повернуть на Вильно и к дому.