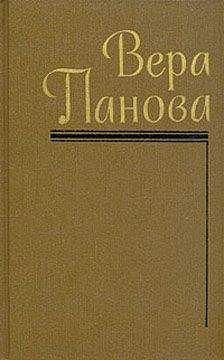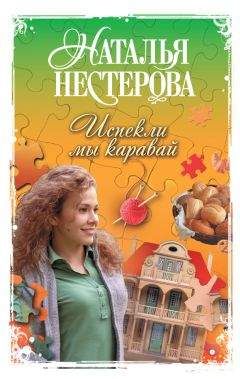Евгений Марков - Учебные годы старого барчука
В папенькином кабинете, этом огнедышащем очаге всего ольховатского дома, движенье и суета, каких никогда не видно в другое время. То и дело позвякивают связки ключей, и с каким-то особенным мелодическим звоном щёлкают замки разных дверочек и ящичков секретера. Несколько вечеров сряду отец всё писал какие-то записочки, раскладывал и укладывал по ящикам бумаги. Настоялись-таки у него около притолоки, заложив руки за спину, приказчик Иванушка, дворецкий Ларион и ключник Матвеич. Часа два ждали сначала в лакейской, часа два выслушивали потом барские приказы, и опять оставались целый час в лакейской, на случай, не забыл бы чего барин и не потребовал бы их за дополнительным приказом. Ноги давно уж отекли у старика Иванушки от этих «Андреевых стояний», как он называл свои ежедневные аудиенции в кабинете.
Чего-чего не переговорил с ними в этот день наш папенька! Когда, что и как делать, на целый месяц вперёд; что делать в таком случае и что в другом. Ничего не упустил, предвидел вперёд все возможные и невозможные случайности, и на всё заранее указал свою барскую волю, чтобы ничего уже не оставалось на глупое соображение его верных холопов.
Когда мне случилось впоследствии, уже в зрелые годы, ознакомиться с хозяйственными предписаниями исторического боярина Матвеева, с этими педантически заботливыми и вместе практическими провиденьями всяких оборотов хозяйственного дела, с его строжайшею и мельчайшею регламентациею всех земледельческих и домашних распорядков, — право, мне казалось, что эта переписка древнего боярина была просто-напросто добыта из секретера моего отца. До такой степени казались мне одинаковыми и самые приёмы письма, и основные точки зрения на дело хозяйства, и эта просвечивающая сквозь всякую строку привычка самому повелевать и распоряжаться всем до мелочи, налагать свою грозную господскую руку на разум и волю даже самых отдалённых от них подвластных людей.
Вышли, наконец, из кабинета, тяжко и боязливо ступая на носки грубых сапог, начинённые приказаниями деревенские власти. Высокий, как каланча, Сашка, камердинер отца, торжественно пронёс в кабинет на обеих вытянутых руках, будто протодьякон архиерейское облачение, вычищенное платье отца. Замкнулась невидимою рукою пузатая ореховая дверочка кабинета, и через весь дом, от залы до девичьих, пробежал озабоченный шёпот: «Барин одевается». Барин одевается, стало быть — скоро оденется, стало быть — скоро выйдет, стало быть — всё и все должны быть готовы. И всё, и все торопливо бросились доканчивать то, что должно быть готово. А в кабинете, за плотно запертою ореховой дверочкой, раздаётся глухое ворчание и фырканье, и звон умывальника, и взрывы гнева на злополучного Сашку, запертого в одиночку, глаз на глаз, с грозным владыкою. Два раза отпиралась боковая узенькая дверочка кабинета, и Сашка входил и выходил из таинственных недр святилища то с ящиком фонтанели, то с бритвенным прибором. И весь дом с волнением присматривался к этим процессам барского одевания, соображая по ним о его постепенном ходе, точно так, как по звону колокола верующие соображают о подвигающейся к концу течении церковной службы.
Дверь кабинета ещё не отпиралась в зал, а уж в зале на столе начали раскладывать обычные дорожные принадлежности отца, с церемониею и строгою систематичностью, навеки вкоренённою в обычай ольховатских челядинцев грозным окриками и тяжёлою десницею барина. Сначала Сашка вынес широкую, очень редко надевавшуюся шинель отца с длинным капюшоном, и кожаный дорожный картуз, потом его табачницу и трубку, потом кинжал, всегда бравшийся в дальнюю дорогу. Все эти вещи положены были рядком в том порядке и в таком расстоянии друг от друга, как любил папенька. Хотя около этих вещей в виде караульного тотчас же стала Пелагея дворечиха, которой одной поручался при отъезде священный ключ кабинета, однако и без неё никто из нас не осмелился бы приблизиться к этим реликвиям, словно пропитанным грозным духом папеньки, и нарушить хотя бы на волос установленный для них роковой распорядок.
Маленький казачок Васька, набивавший трубки отца, стоял около Пелагеи, трепетно держа в обеих руках тяжёлую железную палку отца, с которой он никогда не разлучался, выходя из дома. Это был настоящий архиерейский выход, с тем же трепетом ожидания, с тою же торжественной церемонностью. Вот уж Сашка последний раз вышел из кабинета и положил к картузу огромные чёрные перчатки, казавшиеся с своими широкими, слегка загнутыми внутрь пальцами отломанною от чудовища железною лапою. С сердитым ворчанием стукнула за Сашкой задвижка боковой дверочки, и тяжёлые шаги отца направились в глубину кабинета. Вот опять певуче звякнул замок секретера. Все мы знали, что это совершается последний, самый таинственный акт дорожных подготовлений, — что отец достаёт из секретера деньги.
Мы уже давно все налицо, одетые, совсем готовые. Налицо и мать, и все люди. Все ожидают выхода владыки. На круглом столе накрыта закуска, дымятся сковороды с цыплятами в сметане, с рубленой бужениной, стоят блюда пирогов и лепёшечек со сметаной, селянка с капустой и все обычные дорожные яства, которые любит отец и которых он всегда непременно требовал перед дорогой.
Царские врата с шумом распахиваются на обе половинки, и суровая нахмуренная фигура отца, вся ещё полная забот и неудовольствий кабинета, показывается на пороге. Мы все подходим к нему гурьбою «видаться». Хотя отец был вообще совсем неласков, но у него в этом отношении были строго установленные, для всех обязательные, никогда ни на волос не изменявшиеся обычаи. Каждого из нас он трепал легонько по щеке и целовал в лоб, в то время как мы лобызали его могучую смуглую руку в тяжеловесных перстнях, обросшую волосами сейчас же ниже кисти. Беда, бывало, если кто-нибудь из нас пропустил «повидаться» с папенькой. Его пошлют разыскивать везде по дому, по саду, по двору, и притащенному бедняге придётся одному вступать в кабинет, приближаться к страшному креслу, выслушивая грозные вопросы, где был и почему не пришёл «видаться».
Отец вообще не забывал ничего, точно так же он помнил рождение и именины всякого сына и дочери. Хотя, во избежание баловства, в то старое время не полагалось детям на эти дни никаких особенных подарков, которые мы привыкли теперь щедро расточать своим детям, однако отец непременно каждый раз поздравлял именинника и жаловал ему из своих рук несколько листов бумаги, карандаш и пару конфект. Мы все были отчаянными рисовальщиками, и бумага с карандашом была для нас нужнее всего. И странно, говоря по совести, никакие подарки, какие нам случалось получать впоследствии, не радовали нас так, не казались нам такими важными и дорогими, как эти пятикопеечные карандаши и эти грошовые конфекты, торжественно вручаемые нам в торжественные наши дни из рук «самого папеньки». Без этих всегда одинаковых официальных подарков, заранее всем на известных, именины показались бы нам не именинами, точно так, как праздник без обычной обедни уже не кажется праздником. Эту точность и постоянство вносил отец и во все свои отношения к детям — и когда они учились, и когда они служили. Он присылал им всегда немного, всегда скупо, но всегда с неотступною аккуратностью, не опаздывая ни на один день. К каждый месяц, всё равно как номер аккуратного журнала, отправлялось к каждому отсутствующему сыну обычное родительское письмо с обстоятельным оповещением обо всём случившемся в семье и доме, с неизбежными отеческими назиданьями. «А за сим, послав тебе своё родительское благословенье, остаюсь любящий тебя отец Андрей Шарапов».
Отец уж за столом; он сидит всегда в голове стола на своём особенном кресле; пока он не сядет, никто не смеет сесть, пока он не встанет, никто не смеет встать. Никто не осмеливается прикоснуться к блюду, пока его не поднесут к отцу.
Мы с изумлением и благоговением созерцаем теперь, как рушит наш папенька свою любимую селянку. Должно быть, уж нам ничего не останется. Целая башня подовых пирожков воздвигнута около его тарелки, и башня эта тает с быстротой почти невероятной. Один за другим летят пирожки в его громко чавкающий, неистово жующий рот под свирепыми чёрными усами, в то время как его жёлтые, налитые чёрным огнём глаза мечут кругом себя не то вызывающие, не то гневные взоры, как будто он недоволен кем-то и сейчас потребует его к себе на расправу. Но это только так кажется, а сущности суровое папенькино сердце размягчается за первою ложкою горячего, за первым аппетитно пахнущим пирожком.
— Варвара Степановна! А вы и не видите! Вам и дела нет! — вдруг сердито вскрикнул папенька, торопливо прожёвывая куски жирной ветчины с горчицей. — Ведь мне ж нельзя ветчины, ведь я ж капли принимаю!
Маменька беспокойно встрепенулась.
— И то ведь правда! Я и забыла совсем… Чего же ты ешь? Брось по крайней мере!
— Ну нет, уж теперь я не брошу! Чего ж вы прежде смотрели? Нужно было прежде смотреть… Теперь уж всё равно. Вот и разболтаешься через вас! — отвечал отец, гневно потрясая чёрным чубом своим и устремляя на мать взгляды самой искренней укоризны.