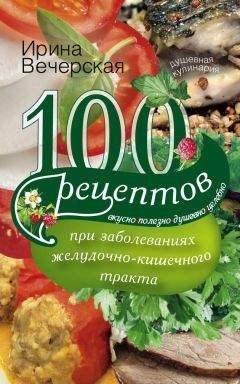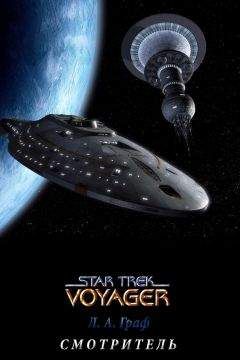Наталья Головина - Возвращение
Сегодня, вернувшись из Лувра, они прочли записку, доставленную им от Белинского: «Душа моя (бессмертная) жаждет видеть вас». Виссарион просил навестить его на днях в клинике в Пасси. Но в тот же вечер, не выдержав, приехал сам. Хоть это и вредно для него, он в злейшей чахотке.
Давно уже пагубно действовал на него петербургский климат. А также знакомая с детства полунужда… Москвичи и питерцы собрали ему для поездки на воды две с половиной тысячи рублей. Почему осуществили это только нынешней зимой, а не раньше? Препятствовала щепетильность Белинского, скрывавшего от всех и от себя самого за вспышками энергии изнуряющее действие болезни, да и постоянный тяжкий воз работы в журналах, когда год за годом ему было не до себя, вернее, в этом и был он сам — взбадривающийся, до поры, в ходе полемических сражений… Был еще один отвлекающий момент — семейное счастье, столь позднее у него и долгожданное, что не могло не казаться, вопреки грозным признакам, что радость спасает и исцеляет… от всего.
…Доктор-немец в Зальцбрунне все повторял свое врачебное «мы»: «Чувствуем мы себя явно лучше!» Воды и диета не шли на пользу — пациент на глазах слабел. Но врач был лучезарен и доволен. Оставалось только спасаться бегством. Пусть его, каналью… На днях они добрались с сопровождающим его Павлом Анненковым в Париж.
Как, вероятно, и все, Александр едва сумел скрыть горестное удивление при виде Белинского: он стал еще более узкоплеч, чем ранее, и на обтянутых скулах — пятна кирпичного румянца. Виссарион было приободрился, но ненадолго. Засмеялся от радости увидеть Герцена до изнеможенного кашля. Спросил прямо:
— Что, изменился?
Со щемящим чувством смотрел Александр на его проступающие под обвисшим сюртуком лопатки. По-прежнему крутым и обширным был лоб Белинского, и неизменными оставались глаза, что в минуты возбуждения темнели, становились из голубых серо-стальными. Герцен ответил:
— Глаза гладиаторские! Тот же… тот!
Белинский улыбнулся устало:
— Да уж, глаза и уши остались.
Присутствующие решили немедленно доставить прямо сюда медицинскую знаменитость де Мальмора — у того известная клиника под Парижем, вызволила многих.
— Но ведь это же дорого!.. — протестовал Виссарион. Он собирался проконсультироваться у Мальмора только на днях. И у него оставалось едва на обратную дорогу. Парижские друзья собрали деньги на его лечение.
Таким вот образом — он в клинике в Пасси. Сам Париж ему понравился чрезвычайно, в первый раз действительность превосходила его ожидания.
В клинике его состояние несколько улучшилось. Но он скучал. Несмотря на почетнейшее соседство. В комнате напротив помещался проворовавшийся министр Теста, удаленный на время для прикрытия скандала в респектабельную лечебницу. Он прогуливался по больничному саду в отменном фраке и с борзою-рюс, похожей на собственную изысканную и плоскую тень, с ожерельем на ошейнике и с мордой, напоминающей щипцы. Собаку настороженно обходили столь же поджарые англичанки, лечившиеся здесь от плоскостопия и сплина, а в Белинском она, возможно, чуяла соотечественника…
Но ему невмоготу стало сегодня в Пасси, он томился в своей комнате.
Размеренно поднимался сейчас по лестнице. Ответил на приветствие Луизы Ивановны, только уже находясь наверху, боясь громко говорить. Голос у Белинского был клекочущим от одышки.
Следом за ним поднялся другой гость — Михаил Бакунин, зашедший к Герцену после выступлений в эмигрантском клубе. Гигант и атлет, приметно исхудавший сравнительно с тем, каким его помнил Александр в прежние годы в Петербурге и Москве, но не менее энергичный и оживленный, он сел у камина, откинув назад скульптурную львиную голову с забеленными сединой кудрями. На его красивом лице с приметно выпуклыми серыми глазами играли рыжие отсветы пламени.
Александр невольно представил себе, как только что в клубе он наскоро «приводил в разум» какого-нибудь отсталого в идеях эмигранта, агитируя его, скажем, в духе отказа от денег, что будет шагом к революции, это охотно поддержат массы! «Только в том тут и загвоздка, что мы сами не лидеры, народ много революционнее! Он, собственно говоря, всегда готов — стоит только бросить клич!» Его азарт и напор увлекали на время даже тех, кто оставался равнодушен к самим идеям. Бакунин, на взгляд Герцена, был рожден агитатором, Сазонов перед ним отшельник…
Нетрудно представить себе еще и такую сцену в клубе: Бакунин опирается рукой о тамошний плетеный столик в кофейне, ударяет по нему в такт фразам. Сокрушает его наполовину… Панический шепот по-французски какой-нибудь далматской эмансипе в жемчугах:
— Иль э фу! (Он сошел с ума!)
Крики:
— Но что же он проповедует не для двадцать первого, а для нынешнего века?
— Гордая безбоязненная совесть и уважение к человеческому достоинству — эти качества особенно нужны сегодня всем нашим общественным уложениям… и в особенности российскому правлению! А без того они — всего лишь тормоз для зарождения гармонической и независимой личности! (Бакунин страстный поклонник свободы и развитой, независимой личности как первого шага к ней).
— …Так называемое право собственности? Не видел никакой необходимости в нем во всей своей жизни!
— Но, позвольте же, герр Бакунин, ведь так не устоит ни одно правительство!
— Но разве мне поручено упрочивать правительства?
— Однако без него нельзя!..
— Ну это без сомнения, хоть какое-нибудь дрянное, да надобно! — Гигант улыбается победно и вполне глумливо по отношению к упомянутым понятиям. И убеждает присутствующих в том, что они хотят именно того же, чего хочет он сам. Подавляя и заражая их своей энергией… Александр улыбнулся, представив себе все это.
Таким Бакунин был всегда — фигурой слегка фантастической, потому что тут не поза и словоизвержение, воплощением его идей служит вся его жизнь. Игнорирующий многие необходимые условности, но самоотверженный и страстный боец… Совершенно таким же был он, когда восемь лет назад Герцен, почти единственный из всех, с кем он еще не поссорился в Петербурге, провожал его до Кронштадта — по пути его за границу.
Мишель, помнит Герцен его тогдашнего, чувствовал себя сиротливым без революции и готов был даже выдумать ее, чтобы жить ею. Уезжал он, чтобы «распропагировать» западных социалистов и наконец «разжечь дело». Была у него и еще одна цель — удалиться куда-то за границу для дуэли с Михаилом Катковым, так как по российским законам того времени оставшийся в живых поступал в солдаты. Причиной дуэли был роман Каткова с женой одного из ближайших друзей Бакунина. Он публично сподобил Каткова тростью, тот его — ответно, однако Бакунин при этом не был деликатен в отношении чужой тайны и получил от Каткова вызов. К счастью, дуэль все же не состоялась. Заодно Мишель пытался перед отъездом развести по своей инициативе сестру Вареньку с недостойным ее супругом-адвокатом и увезти ее с сыном за границу. (Быть свободным и освобождать других!)
Оказавшись проездом в Германии, он поражал тамошних профессоров своим знанием философии. Громил их догматы. Но вскоре пресытился тем и уехал. Рано умерший Николай Станкевич и Бакунин познакомили в те годы западную публику с пробуждающейся мыслью в России, которую на Западе считали до недавнего времени спящей под снежными пеленами… Бакунин азартно удивлял европейские столицы идеей анархизма.
Тогда, в молодые годы, он был похож на буйно кудрявого полухерувима-полуфавна, с мечтательным, гневливым и опасно прельстительным взором… И был весьма бесцеремонен со всевозможными идейными кокотками буржуазного благомыслия. Тут было нечто от сладострастия погони, и самый анархизм — вроде грохота копыт сатира за спиной жертвы, чтобы загнать ее в угол и чтобы она за полверсты знала, что не уйти… Ну и потеха же на курятнике!
Александр любил в нем эту необычность и чрезмерность. Его вообще привлекали яркие и крупные личности, он видел в них ростки будущего, «бродильный элемент» в среде безнамеренности и безмыслия. Вот и да здравствуют смеющие сметь, не стоит спрашивать у них, какое право они имеют быть таковыми!
Маша Эрн разливала чай, она любила это занятие. Она — гостеприимная, кроткая и любящая душа, опора герценовского дома, не гувернантка, но друг и член семьи.
— Теперь настает счастливая минута… — произнес Бакунин и подсел ближе к кренделям и печенью.
Откупорили бутылку бургундского.
Речь за столом зашла о нравах в клинике Пасси. Лечиться становилось хорошим тоном, и она была полна дельцами на отдыхе. А Бакунин объяснял Луизе Ивановне и Маше роль тайных эмиссаров в порабощенных соседями славянских странах, пример: Черногория с Герцеговиной, народы эти — несомненно, пороховой запал будущих революционных потрясений. И уничтожил тем временем корзиночку печева, приготовленного к чаю. Анненков расхохотался, влюбленно глядя на гиганта. У Виссариона от возмущения потемнели глаза…