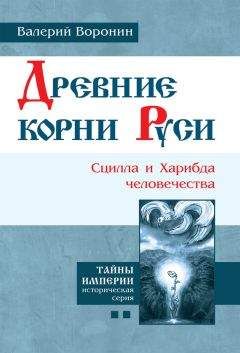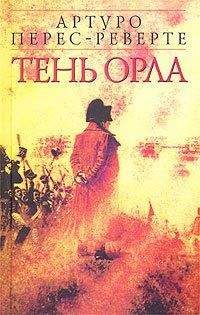Николай Платонов - Курбский
— Ну, люди, все ли готовы за мной идти?
Ответили не сразу, смотрели, чего-то еще от него ждали.
— Все, — сказал наконец Иван Келемет.
— Куда деваться-то! — простодушно сказал Андрей Барановский и улыбнулся.
«Не предаст! — подумал Курбский. — Под Феллином показал себя!»
— Ну и добро. — Он кивнул им всем. — Поздно нам передумывать: схватят — никого не помилуют.
Они опустили глаза — всё понимали.
— Живыми не давайтесь, не советую… Ну пошли!
Они медленно тронулись сквозь осинник на юг, к Рижской дороге, обходя топкие места и травяные непросохшие лужи. Впереди дозором шли Беспалый — Мошинский и, Гаврила Кайсаров, за ними верхами — князь, Иван Келемет и Василий Шибанов, потом все остальные, след в след, молча.
Когда отошли с полверсты, Курбский спросил Келемета:
— Кого еще взяли?
— Под Старицей перехватили Ховриных, кажется, а вот Тимофей Тетерин[49] из Печор, сотник, насильно постриженный, утек и на царя грозится открыто, монахи сильно теперь боятся… Князя Горбатого, думаю, тоже не помилуют.
Курбский мрачно жевал горькую веточку, ссутулясь в седле. «Александр Горбатый! Отважный и скромный, хоть и великий воитель. Не он ли тогда под Казанью Епанчу-хана разбил, пятнадцать верст гнал, все устелил в лесу трупами! И это его полк тогда отбил моих стрельцов от Едигера, и это он да Петр Щенятев сказали царю, что я пропал, искали меня на поле, на том лугу, где конем меня придавило, на том лугу, на том свете…»
Дохнуло травяной свежестью из невозможной дали, где из сонных туч пробился лучик нездешний, мягко утеплил веки… Курбский поднял голову: впереди в молодом сосновом подросте стоял, пригнувшись настороженно, Гаврила Кайсаров. Он снял шапку, прислушиваясь, ветер трепал его тонкие русые волосы, которые были светлее обветренного дочерна лица. Кайсаров кивнул, и тут князь тоже услышал: впереди, шагах в сорока, тоненько пискнул рябчик: пи-ить-пи-и-и! Это был знак: свои! Сквозь просвет пробивались к ним, шурша ветками, верхоконные, они увидели улыбающуюся веснушчатую рожу Мишки Шибанова, красивого русоусого и синеглазого Кирилла Зубцовского[50] и еще много знакомых лиц: Ваську Кушникова, Невзорова Кирюху, Невзорова Якима[51], Постника Ростовского, брата его Ивана[52], который под Невелем князя на спине тащил, когда ранило в ногу, а вот и Захар, и Василий Лукьянов, которого кони любят, и Симон Марков, и Петр Сербулат из черкесов, черно-серебряный — рано поседел. Все они смотрели весело.
— Откуда вы все? — спросил князь.
Кирилл Зубцовский усмехнулся, кивнул на Келемета:
— Его спроси, князь.
— Вчера я в городе кой-кому намекнул на всякий случай, — сказал Келемет, отводя взгляд. — Ну, думаю, если твоя милость уйдет в Литву, надо же и всех своих предупредить…
«Он был уверен, что я уйду ночью из города!» — подумал Курбский с гневом, но и с благодарностью: Келемет спас этих людей, он один о них подумал. Теперь их стало двадцать, и все при оружии, у каждого заводной конь — они забрали полтабуна с пастбища вместе со сторожами — Кушниковым и Захаром Москвитянином.
Теперь все были верхами, и вот все дальше Дерпт, все глуше бездорожье, но свободы все не было. И ее не было и час, и другой, и третий, и весь день, когда они скакали то лесными зимниками, то полянами, огибая болота, увязали по бабки, и опять мелколесье, поле озимое, полые ручьи, и опять опушка, и они озираются на дальний хутор с колодезным журавлем, а свободы все нет, хотя кругом безлюдье, тишина.
К вечеру на перекрестке двух дорог Шибанов нагнулся с седла, показал на следы с шипами подков: «Немцы!» Все встали, оглядываясь на сосняк, редеющий впереди.
— Недавно проехали, — сказал Келемет, — кругаля мы дали, на Вольмар[53] отсюда не проехать… — Он повертел головой. — Постой! Чем-то вроде знакомо место. А это что?
В стороне под прошлогодней травой виднелись глубокие колеи от пушечных полозьев, полусгнившая платформа, сломанное колесо. Курбский почувствовал странное узнавание, как во сне, в котором бывал однажды. Они тронули осторожно. С опушки открылось поле, заросшее бурьяном, речка в ивняке, а за ней на голом холме замок с квадратной башней. В глухой стене чернели ворота, мост был поднят.
— Гельмет! — в один голос сказали князь и Шибанов. Недавно еще Курбский осаждал эту крепость, вел тайные переговоры с графом Арцем[54], наместником герцога Юхана. Но заговор был раскрыт, осаду пришлось снять, Курбского послали под Феллин. Кто сейчас в крепости: немцы? ливонцы? поляки?
Мирно золотилось вечернее поле, поблескивала речонка меж ивняков, а взгляд растерянно, удивленно бежал по знакомым холмам, овражкам, опушкам, где стояли тогда, где, всплывая в памяти, горело что-то, рвалось, вон из того оврага из предрассветного тумана возникли огромные тени — вылазка немцев, всполох, бегство спросонья, скрежет железа, выкрики, топот… Еле отбили тогда батарею, вон у той ракиты билась, подыхая, кобыла Димитрия Курлятева[55], а сам он лежал грудой холстины: так и убили, как выскочил, — полуодетого. А сейчас тишина, дрозды свистят на закате.
— В объезд придется, — мрачно сказал Келемет.
— Нет! — Курбский пощупал сверток за пазухой. — Великий магистр Кетлер[56] отдался под руку Сигизмунду: ничего теперь они нам не сделают, примут, накормят, а завтра с честью проводят на Вольмар!
И он тронул из леса к замку, а остальные с опаской — за ним. Он улыбался сдержанно, ноздри втягивали запах напоенного водой поля, навозной прели, цветущей вербы, теплого вечернего сосняка. Запах свободы. Наконец он позволил себе поверить. И сразу открылись все поры тела, с болью забилось что-то живое.
— Едем! — крикнул он радостно, и лица людей тоже оживились.
Они стояли сгрудившись перед окованными воротами. Сверху из бойниц их рассматривали немцы, дымились фитили аркебуз. Иван Келемет крикнул, коверкая немецкие слова:
— Князь Курбский с охранной грамотой короля Сигизмунда-Августа! Отворите гостю короля!
И он сам, и все, даже князь, чувствовали себя сейчас голыми.
Со скрипом цепных блоков медленно опустился мост, поднялись, как львиный зев, зубья воротной решетки.
Спешившись, стояли они в каменном мешке крепостного двора, Курбский впереди с королевской грамотой в руке — пергаментный свиток с тяжелыми печатями. Он сдерживал гордую улыбку: никто не пострадает, кто пошел за ним, никто не ожидал, что у него есть охранная грамота. Сейчас их примут с честью, накормят, напоят, а завтра дадут проводника в Вольмар к королевскому наместнику. Всей спиной он ощущал удивление и радость своих людей.
Они стояли и ждали. Здесь, во дворе, было сыро и полутемно, но верх башни, отрезанный закатным светом, розовел изъеденной веками кладкой, слабый ветер шевелил орденский стяг, а еще выше по апрельскому небу плыли с запада редкие круглые облачка.
Слуга в суконном кафтане крикнул сверху с высокого крыльца:
— Кто здесь, который называет себя князем Курбским? Пусть пройдет сюда, в башню!
Курбский поднялся по ступеням и вошел в каменную сырость башни. Он не торопился и не сердился: он знал, как любят ливонцы соблюдать все свои церемонии: чем слабее люди, тем крепче держатся они за старинные обычаи. В особенности Ливонский орден[57] — ведь время его силы давно миновало.
Курбского ввели в квадратную каменную залу и поставили перед голобородым стариком в вязаной шапочке и длинном плаще. На плаще был нашит крест, не русский, а ливонский, восьмиугольный; каждый конец его был остро взрезан, точно жалящий хвост, и вообще это был не крест, а его искажение. Курбский с трудом оторвал взгляд от этого креста и взглянул на старика. Тот молча протянул руку, и он так же молча вложил в нее грамоту. Тусклые водянистые глазки старика смотрели мимо, он не развернул грамоту, сказал, еле открывая запавший рот:
— Сдай все золото, которое с тобой, и оружие. — Он пожевал безгубым ртом, — Или я прикажу обыскать тебя.
Курбский вспыхнул, но взял себя в руки; да, и это тоже их немецкая повадка — нагрубить, запугать. Но они еще не знают, кто он!
— Прочти грамоту! — сказал он раздельно, сурово. — И ты узнаешь, кто я, и поймешь, что я и мои люди находимся под защитой королевского закона.
— Здесь один закон — ордена, — сказал старик бесстрастно, — И я здесь судья. А золото, которое у тебя, ты отнял у ордена.
Андрей понимал его — за десять лет войны на западной границе он научился немецкому и польскому, он понимал не только его речь — его намерения. Чтобы проверить себя, он взглянул на мрачных неподвижных дворян, которые стояли за спиной старика у потухшего камина. Они смотрели в лицо с терпеливым ожиданием, исподлобья, тупо и жестоко: он понял, что они схватят его, если он сделает хоть шаг. А может быть, и убьют. Но он не понимал нечто личное в этой готовности к убийству, личную ненависть именно к нему.