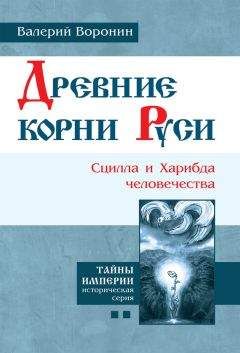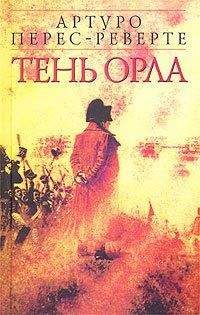Николай Платонов - Курбский
Все это отнимало надежду. Поэтому, когда они спешились во дворе и слуги, кнехты, дворяне, конюхи, псари — огромная радостно-жадная толпа — окружили их, Андрей не удивился и не возмутился: так везде окружают гурт пригнанных пленных — скотину, которую можно продать или зарезать.
«А ведь нас нельзя даже продать, — подумал он и посмотрел на своих людей. — Ведь мы не можем дать за себя выкуп, потому что мы ничьи, мы без роду и племени, мы не смеем просить родных выкупить нас».
— Снимай! — сказал высокий рыжий немец Ивану Келемету, показывая на его ноги.
И Келемет, широкоплечий, бесстрашный Келемет, затравленно оглянулся, сел на землю и стал стягивать сапог.
Толпа оживилась. С Василия Шибанова сняли кафтан, он стоял в одной грязной нательной рубахе, заправляя гайтан с крестом за пазуху. «Он прячет своего бога в свое голодное брюхо!» — сказал кто-то по-немецки, и толпа расхохоталась. Но Курбский остался спокоен: всему этому надлежало быть. Да, если ты преступаешь заповедь, ты должен ожидать чего угодно, ты должен стиснуть зубы и терпеть. «Я буду терпеть до конца! — сказал он сам себе. — Я не ждал такого, но буду молчать до конца!» Он вскинул голову и стал смотреть поверх голов и лиц.
— А этот — чем он других лучше? — спросили сзади насмешливо, и длинная рука сорвала с него лисью шапку.
Он обернулся, сдержал себя, но грудь его задышала шумно. Длинный рыжий немец в зеленом камзоле смотрел на него, презрительно прищурясь.
— Эго действительно князь Курбский? — спросил кто-то по-польски в задних рядах.
И тогда Андрей крикнул напряженно:
— Поляки! Литвины! Здесь есть шляхтичи? Пусть скажут королю и гетману Юрию Радзивиллу Витебскому[60], что меня здесь ограбили и убили! Пусть отомстят за меня!
Толпа стихла, прислушиваясь, переспрашивая, вникая, а потом зловеще зашумела, придвинулась. Ее пот и смрад дыхания ощущались всем телом, еще никто не вытащил клинка, но руки сжимали эфесы, а зрачки выискивали уязвимое место. Рыжий верзила, продолжая щуриться, сказал Курбскому:
— Сними-ка плащ — он из хорошего сукна!
«Если я ударю его, меня тут же убьют, но, может быть, это к лучшему? — быстро подумал Курбский. Он знал, что от его удара рыжий упадет как бык. — А если я вырву вон у этого секиру, то…»
— Стойте! — крикнули сверху. — Стой именем ордена! Разойдись!
Кто-то в кирасе и каске крикнул команду, и сразу закованные кнехты железным клином врезались в толпу, пиная и слуг и дворян, отделили Курбского и повели к двери, а его людей погнали через двор в другие двери.
Как и во сне, все менялось без смысла, и страшное было не в словах или нападениях, а в каких-то намеках, в темном углу, где кончалось человеческое и понятное. Красивый тонколицый рыцарь в лиловом бархате и сутулый горбоносый человек в подкольчужной замшевой куртке и ботфортах сидели за столом и смотрели на Курбского, а он стоял перед ними. Он не знал, кто они, он думал о том, что согласен стать пленным рабом у какого-нибудь барона, лишь бы его не выдали царю Ивану.
Рыцарь был ухожен, богат, даже душист, золотая цепь пряталась под кружевным воротом, белый палец постукивал по столу, вспыхивали искры в алмазном перстне. Он молчал, покусывал нижнюю губу. Второй, горбоносый, пристально смотрел из-под седой челки широко расставленными глазами. Он спросил:
— Почему ты во дворе назвал имя моего брата, Юрия Радзивилла? Я его родич, Николай Радзивилл[61].
Андрей посмотрел на литвина отчужденно: Николай Радзивилл Черный перешел со всем домом в протестантство и яростно проповедовал его при дворе короля. Говорят, что свой двор на Волыни он превратил в еретическое гнездо, в кальвинистский собор. А брат его, Юрий, который писал Курбскому из Витебска, всегда принадлежал к греческой церкви. «Знает ли он о брате, о его связи с нами?» — торопливо соображал Курбский, борясь с чувством обреченности: для кальвиниста он не только враг, но и слуга антихриста, как и кальвинист для него. Серые глаза смотрели ему в лицо с терпеливым холодом, нельзя было понять, что думает Радзивилл, но можно было твердо предположить, что, если этот человек что-либо решит, он исполнит это без сомнений и обязательно.
Никто не знал, что полтора года назад воевода Витебский князь Юрий Радзивилл по совету короля написал тайно Андрею Курбскому. Он предупреждал Курбского, что его ждет смерть от царя Ивана, как и многих до него ждала она: Алексея Адашева (сбылось!), Шуйских и Вельских (сбылось!), — и приглашал его, оставаясь в своей вере, перейти на службу к Сигизмунду-Августу. Андрей ответил отказом. Потом было второе письмо от Юрия Радзивилла — умное, откровенное, и опять Курбский отказался, но, несмотря на это, пришло третье вместе с охранной грамотой короля Сигизмунда. Грамоту отнял комтур Гельмета, но письма от Юрия Радзивилла остались: Курбский сохранил их под платьем. Брат Юрия, Николай Радзивилл, ждал сейчас ответа. Курбский расстегнул ворот рубашки, вытащил сверток с письмами, размотал шелк и подал их. Радзивилл Черный прочитал письма дважды и передал их рыцарю в лиловом. Рыцарь читал про себя, шевеля губами. Лицо его становилось все надменней, приподнялась бровь. Он кончил, бросил письма на стол и сказал, постукивая белым пальцем по пергаменту:
— Если это так, то я передаю его тебе, пан Радзивилл.
— Спасибо, барон. Завтра я еду в Вольмар и заберу его с собой.
— Но сегодня мы допросим его, потому что его пленил орден и он не все рассказал в Гельмете, что знает.
Андрей понял, что это комтур Армуса барон Майнегер.
— Меня никто не пленил, — сказал он рыцарю, — мы сами приехали в Гельмет искать помощи и проводника до Вольмара, а нас схватили.
Рыцарь пожал плечами, палец его все постукивал, в камне перстня вспыхивала тусклая искра.
— У меня отняли все ценности, оружие, лошадей, даже одежду, — говорил Курбский, глядя на Радзивилла. — Триста золотых, пятьсот талеров, тридцать дукатов да еще московские рубли… Я буду писать жалобу королю и магистру ордена!
Он обернулся к рыцарю. Тот смотрел неприязненно, но спокойно, чуть заметно усмехаясь под русыми усиками.
— Отдай мне его под мое поручительство, — сказал Николай Радзивилл. — Я и мои дворяне поручимся за него. — Он помолчал и добавил: — Скоро мы встретимся с тобой в Вильно[62], барон.
Голос его был сух, взгляд глубок и холоден, седые волосы подрезаны низкой челкой спереди, а с боков лежат по плечам на потертой кожаной куртке. Протестант. Кальвинист. «Но именно он меня спасает», — подумал Курбский.
— Хорошо, — сказал барон Майнегер и встал.
Он не смотрел на Курбского, который поклонился, уходя. В коридоре Радзивилл сказал Андрею:
— Пойдем туда, где мои люди. Я велю накормить тебя и твоих. Никуда не выходите. Завтра уедем.
— Спасибо тебе, пан, — сказал Андрей, но Радзивилл ничего не ответил, точно не слышал.
Они ехали вслед за обозом с пушками по обочине разбитой дороги, по короткой сочной мураве; в мелких лужах ломалось солнце, они ехали сквозь духовитое парное цветение вербы, одуванчиков расслабленно и медленно, полузакрыв глаза. Но внутри все не пропадала изжога, точно запрятавшаяся в подполье болезнь. «Кто этот Радзивилл Черный, еретик, аскет молчаливый, который едет впереди с отрядом дворян-протестантов? Он взял меня на поруки. Зачем? Из-за родства с Юрием Радзивиллом? Или он знает обо мне от самого короля? Если я не буду служить им честно, меня выдадут Ивану… Литве служит много наших: Острожские, Одоевские, Вельские, Заболоцкие — одни давно, другие — как и я… Служат Сигизмунду, потому что Иван кусает руку, которая его кормит, — древние роды князей. Литва — та же Русь, ведь это удел Мономаховичей, когда-нибудь она сольется с Русью под началом великого князя из Рюриковичей. Не Ивана Кровавого, конечно… Тогда Русь станет непобедимой, а пока надо терпеть да ждать, ехать медленно за тяжелыми полозьями волокуш, на которых по жидкой грязи упряжки волов тащат пушечные стволы и лафеты. Кругом зеленеет весенняя Ливония — владения ордена Меченосцев[63], некогда грозного владыки, а сейчас… Не так ли пройдет вся слава мира сего, и наша, и моя, которая, может быть, уже прошла, хотя я не предал своей веры…»
Он вспомнил лилового рыцаря — комтура Армуса, его надменную усмешку и холеные руки, постукивание белого пальца по полированному столу, — все это было лишь притворством, маской, скрывающей бессилие ордена. «Если дом разделится сам в себе, он не устоит. Так у нас с воцарением Ивана Кровавого. Так и в Ливонии — об этом говорил пленный ленсмаршал Филипп, захваченный под Феллином. Он был истый рыцарь — хрупкий, но неустрашимый, таких почти не осталось, с ним было интересно говорить, его уважали все, и Шереметев, и я. Когда его спросили, почему ослабел орден, он сказал: «Когда мы имели одного истинного Бога Иисуса Христа и одну истинную Римскую церковь, тогда мы были непобедимы. Но пришла ересь и расколола нас, горожане восстали на епископов, а кнехты — на рыцарей, и орден пал за наши грехи!» Он поднял руки и глаза к небу и заплакал, как ребенок. Мы просили Ивана его пощадить, но он казнил Филиппа за правду и отвагу. Это был рыцарь до конца…»