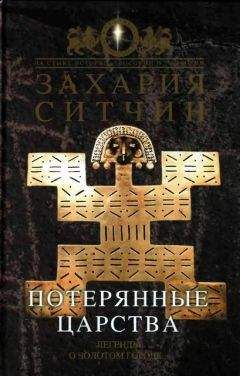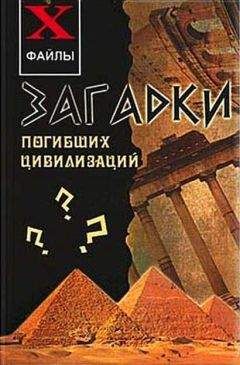Валерий Прохватилов - Гангутский бой
Только-только вышли из-за поворота, Рябов и Борисов незаметно переглянулись: пора!
Тут же Рябов показал рулевому, что надо резко брать влево прямо без переводчика, сам к нему обратился да ещё жестами словам помогать начал: мол, скорее, скорее!
Рулевой послушался, а переводчик не на шутку разволновался: пушки увидел на берегу. Закричал сразу что-то резкое капитану, да поздно было. Грохот тут раздался великий, затрещала обшивка у галиота. Галиот на всём ходу словно в стену невидимую упёрся. От удара грот-мачта переломилась и рухнула вперёд, погасив фор-стаксель и кливера. Разрывая спасти, накренилась бизань. Ветер продолжал надувать на ней паруса, отчего судно, не имевшее теперь хода, стало медленно клониться на левый борт.
Второй галиот, чтобы избежать столкновения с флагманом, влево взял ещё резче, к берегу рванувшись почти под прямым углом. Внезапный тупой удар при посадке судна на мель бросил на палубу растерявшуюся команду.
Лёгкая шнява, идущая следом, с треском врезалась в корму галиота.
В Ново-Двинской крепости ударила в сей же миг караульная пушка. Выло видно, как к орудиям бегут бомбардиры, — многие в одних рубахах. без шляп. Три застрявших корабля стали теперь под дулами, как фанерные мишени на полигоне. Бомбардиры были хорошо обучены, опытны.
Рябов и Борисов были уже у борта, когда за их спинами грянул раскатисто ружейный залп. Щепки от борта сверкнули, как искры. Борисов был сразу убит. Рябов ранен в предплечье. Падая в воду, он ещё не был уверен, что сумеет вынырнуть на поверхность.
Вынырнул, однако, поплыл.
И тут же вода вспенилась вокруг от десятков пуль. Гибли три корабля, но шведам, казалось, важнее было лоцмана своего коварного добить, не позволить ему добраться к своим. Очень уж они ему доверились — просто беда! А он их, гляди, на мель сунул. Так что надо добить…
Рябов нырял — насколько хватало дыхания. Снова ранен был — теперь в ногу.
Оказавшись на поверхности, слышал только гром пушек с той и с другой стороны. Смертная дуэль завязалась, свистела картечь. Шведы подавить старались русские батареи. Потому как понимали: под огнём им с мели не сняться.
Рябов плыл, то глубоко ныряя, то вновь показываясь на поверхности, — насколько хватало сил. Вскоре в глазах темнеть стало. Потом красные большие круги пошли, мутноватые, как закатное солнце.
Понял явственно: не доплыть…
И когда уже в последний раз, с жизнью уже прощаясь навеки, правую руку отяжелевшую вперёд кинул, вдруг наткнулся на что-то… Веки с трудом разлепил: весло…
Да, ему протягивали весло. А уж лодку, подошедшую на помощь из крепости, он сознанием своим воспалённым как будто и не воспринял. Просто не видел её.
За весло ухватился, однако, с цепкостью небывалой. Ухватился так. что пальцы судорогой свело. Слышал, как переговариваются гребцы, подбадривают: держись, мол. Чьи-то крепкие руки через борт помогли перевалиться и уложили на дно.
Очнулся Иван Рябов на берегу. Перевязанный, он лежал прямо на траве, внутри крепости, у кирпичной степы. Под голову ему что-то мягкое подложили, должно быть, скатанный плащ.
Очнулся и сразу одного из офицеров, что у амбразуры стоял склонённый, покликал. Иевлев это был, капитан. Рябов сразу узнал его. встать пытался, да где там! Иевлев сам на коленки опустился ухо подставил.
— Шведы, — сказал Рябов вполголоса и рукой легонько в сторону моря махнул, будто всё ещё плыл. — Там, на рейде, ещё три судна… Флаги у них голландские. Для подвоха. На Архангельск идут…
Иевлев кивал:
— Далеко не пройдут. Они про пашу крепость, поди, и слыхом не слыхивали.
— Во. А у ж про мель — и тем паче.
Ясность хоть какая-то теперь наступила. Суть события грозного проявилась. А то — спросонок, да впопыхах, да по воскресной поре — многие в крепости в толк никак взять себе не могли: почему вдруг дружественные голландские корабли — и стрельба?..
Рябова в караульное помещение отнесли, в тепло, а русские батареи огонь свой будто утроили. Все теперь на непрошеных гостей озлобились люто — и бомбардиры, и офицеры. Именно из-за коварства этого, с флагами учинённого.
Ишь, за своих хотели сойти!
И опять летели ядра и свистела картечь.
Бой продолжался без малого тринадцать часов… Оба галиота горели.
Наконец шведы поняли, что эту русскую крепость, не известно откуда взявшуюся, им не одолеть… Те, кто остался в живых, в шлюпках перебрались под огнём на уцелевшую шняву. Развернулись — под прикрытием брошенных своих галиотов — и, отстреливаясь помалу, в море ушли.
Так Иван Рябов с погибшим товарищем своим Димитрием Борисовым от Архангельска великую беду отвести сумели.
Получив депешу о происшедшем, посетил Архангельск сам государь. Галиоты пленённые осмотрел, как починка идет, проверил.
Но всему видно было, что остался доволен. Тут же и Рябова велел отыскать.
Привели…
Целовал государь героя трижды, хвалил. «Чего хочешь? — спрашивал. — говори…» Рябов мялся, однако, и, похоже, ничего придумать не смог. Оробел.
Тогда Пётр сам, при всей свите своей, грамоту официальную ему выдал, по которой навсегда освобождался Иван Рябов от всех повинностей, а также и от налогов.
Так вот и состоялось оно, знакомство эго, Рябова с государем. Жизнь оно для Рябова по-новому повернуло. Шёл с тех нор Иван Рябов — с войском русским — тринадцать лет. Всюду успевал появляться, откуда грозила внезапно беда. И не город он теперь один защищал, свой Архангельск родимый, а всё русское государство — вместе с другими такими же, как и он, мирными в прошлом людьми. С теми, кого судьба поставила в трудный час защищать российские рубежи.
7. ПОХОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ
олько через три недели после выхода на Кролота русский галерный флот подошёл к Гельсингфорсу — крупной военной базе на пути к крепости Або. Надо было пополнить запасы местного гарнизона, который тоже, как и корпус князя Голицына в Або, довольно остро нуждался после зимовки в боеприпасах и провианте.
Да и своим гребцам граф Апраксин отдых затеял дать. Хоти бы недельный. Ибо сильно приустали на галерах гребцы в плавании этом великом по шхерному мелководью.
И немудрено устать было: многие пехотные люди в атом походе впервые в жизни за вёсла взялись. Некоторые вообще отродясь не видели моря. А грести им порой приходилось в сутки по двенадцать — пятнадцать часов. Благо ночь коротка в июне в этих местах, а день длинен.
Медленно шли. Путь прямой, на карте проложенный, на природе, на месте, из многих сотен и даже тысяч отрезков слагался, каждый из которых вёл между островами, между скалами торчащими то вправо, то влево.
Но ведь всё-таки продвигались!
Плыли, опыта набирались, становясь порой на внезапную коварную мель, натыкаясь то на камень плоский, чёрной тиной поросший, то на чуть прикрытую прибоем скальную россыпь. Шли и шли — водном ритме упорном, размеренном, под команду резкую загребных — всё вперёд и вперёд.
И-и р-раз! И-и р-раз!
Редкой порой, когда большая вода открывалась прямо по курсу, солдаты ставили паруса. Дули на руки тогда, разминались помалу. Перевязывали друг другу лопнувшие мозоли. Раздевались по пояс, подставляя солнцу крутые спины.
На галере, где Рябов плыл, часто в такие минуты звучала песня.
Всё в ней было — и тоска по дому, и простое понимание нелёгкой своей солдатской судьбы:
Вы спросите, серые пташечки,
у головушек удалых про житьё-бытьё,
про житьё их, про военное:
что ведь посланы удалы головушки
во чужую-то дальнюю сторонушку,
разлучёны они с молодыми жёнами
и со своими-то малыми детушками!
На соседних галерах песню, как правило, дружно подхватывали, и тогда летела она назад, к родным берегам, к дальним сёлам, где осталась прошлая жизнь, которую требовалось теперь защищать:
Не в своих живём мы нынче горницах,
да не на мягких спим постелюшках,
не на пуховых-то подушечках!
Да не жаль удалых нам головушек,
жалко только жён да малых детушек!
Но вот ветер стихал, и опять ритмично вспарывали узкие упругие вёсла морскую гладь. День за днём бежал, и неделя шла за неделен.
В Гельсингфорсе простояли до 19 июня. Банились. Отсыпались. Для солдата передышка всякая в великой войне — продление жизни. Кто мозоли от вёсел или раны прошлых баталий подлечивал, а кто попросту и одёжу чинил…
Генерал-адмирал Апраксин тем временем уведомление подробное получил о том, что русский парусный флот иод командованием контр-адмирала Петра Михайлова плавание своё с благополучием завершил, бросив на дно Ревельской бухты цепкие якоря.