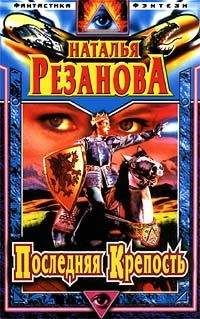Мария Сосновских - Переселенцы
Среди заказчиков Арсена было не только духовенство. Прослышав о его мастерстве и честности, его звали расписывать купеческие особняки и богатые трактиры. Одно не устраивало богатых заказчиков: Арсен был нетерпим ко всем, кто вмешивался в его работу или, еще хуже, начинал докучать советами. Такого богомаз мог обругать и даже в запальчивости ударить… Уж на что сыновья беспрекословно повиновались ему, но и им иногда крепко попадало.
Свое каторжное прошлое Арсен скрывать даже не пытался, а наоборот – иногда как бы даже подчеркивал его.
– Угрюмый, темный он человек… Можа, это каторга его таким сделала, – говорил Елпанов своим теперешним знакомцам – священнику Антону и дьякону Варсонофию. Дьякон в ответ махал рукой:
– Да пес с им, што он угрюмый – тебе-то от этого какая беда? Лишь бы он с сыновьями расписал все, как следует, а мастер он вроде неплохой!
В деревне все еще посмеивались над теми богомазами, которых Иван Петрович сначала нанял, а потом сам же и выгнал с треском. Один из них, Василий, повадился ходить к вдове Вере Николихе, отпетой головушке.
Про нее поговаривали неладное еще при жизни мужа Николая, мужика смиреного и робкого, жившего у жены в полном подчинении. Николай скоропостижно умер, тридцатилетняя Вера осталась с маленькой дочкой и, как говорили злоязыкие кумушки, не стала пропускать ни пешего, ни конного…
Отличалась Николиха красивым лицом и станом. У нее были большие серые глаза, прямой, чуть длинноватый тонкий нос на чистом овальном лице. В Прядеиной чужие приезжие люди бывали редко, но всегда они каким-то чудом оказывались у Веры Николихи. Поговаривали даже, что у нее не раз ночевал сам становой пристав.
Как приехали богомазы, Николиха ходила с гордо поднятой головой и, не стесняясь, хвасталась прядеинским бабам:
– Ой, бабоньки, какой Вася обходительный, не то што ваши мужики! А как он меня любит! Я тебя, Вера, говорит, беспременно на икону посажу – пусть все на тебя молятся!
– Как это – на икону?!
– А нарисует меня, да и все! Ты, говорит, будешь сидеть, как статуй, и не шевелиться, а я буду на тебя смотреть и великомученицу Екатерину на стене рисовать… Вот вам, молиться на меня вскорости будете!
– Господи, да, поди, грех это, грех непрощеный….
– Я тоже ему сперва говорила, а он мне ответил: нет, мол, в этом никакого греха!
Весть о том, что беспутную бабенку Николиху богомаз хочет посадить на икону, мигом дошла и до Елпанова.
Иван Петрович только что вернулся с заимки и сразу направился в церковь, весь – туча-тучей. Из этой тучи вот-вот должен был грянуть гром… И он грянул, как только, войдя в церковь, Елпанов увидел такую картину: Вера Николиха неподвижно сидела на табуретке, а Василий-богомаз на стене рисовал с нее икону. Иван Петрович так и остолбенел сначала, даже дар речи потерял, но, опомнившись, рявкнул:
– Ты што это, паскудница, сюда приперлась?! А ну, вон отседова, и штобы боле духу твоего здесь не было!
Николиху как ветром сдуло, только железная церковная дверь лязгнула.
– А ну закрась, Василий, стену!
– Напрасно вы, Иван Петрович, женщину обидели! Я сам ее позвал сюда, Екатерина-великомученица из нее получилась бы, профиль у нее прекрасный!
Елпанов и понятия не имел, что такое профиль, и взъярился не на шутку:
– Я тебе, нечестивец, покажу, как сюда шлюх водить! Ни про какой профоль и слышать не хочу, и так по роже ее видно, что «великомученица»!
– Вы, Иван Петрович, человек без понятия! Редкой красоты лицо у этой женщины…
– Вот в кабаке и рисуй ее, а не в божьем храме!
Елпанову показалось, что мастера переглядываются и насмехаются над ним, и он окончательно разбушевался:
– Я покажу вам, сукины сыны, понятие! Сегодня же получите расчет, и валите на все четыре стороны!
Вытурив мастеров, Елпанов закрыл церковную дверь на висячий замок. Подошла страда, а там – смошная осень, зима, и до самой весны прядеинская церковь простояла на замке, только с наступлением теплых дней работы возобновились. Ко дню Иоанна-крестителя они должны были закончиться.
Мастера работали изо всех сил, были трезвы и скромны, и хотя Арсен порой грубил, Елпанов уже смирился с этим: он понял, что все мастера-живописцы, видимо, люди с большими причудами…
Но вот после долгих хлопот, наконец, все было готово. Из Ирбита приехали представители духовенства – принимать работу. Довольно вместительное здание, с хорошей архитектурой и росписью, церковь все же записали как часовню об одном престоле.
Сколько потом ни хлопотал Иван Петрович Елпанов – толку не добился. Прядеина так и осталась приходом в харловскую церковь, и там было все духовенство.
Иван Петрович еще надеялся на его преосвященство митрополита Сергия. «Надо будет просить его преосвященство, чтобы он похлопотал в Святейшим Синоде», – прикидывал Иван Петрович, хотя и предчувствовал, что ни священника, ни дьякона в его, елпановскую церковь, не пошлют, и будут там служить, как в маленькой, захудалой часовенке.
Не побоявшись затрат, Елпанов даже съездил в Екатеринбург и купил иконы для церковного иконостаса. После того, как иконы были поставлены, он добился приема к архиерею, был и у митрополита Сергия, просил и даже пообещал пожертвовать деньги в епархию. Все духовенство вроде бы согласно было перенести приход в Прядеину. Архиерей обещал вскоре побывать в деревне, осмотреть и освятить прядеинскую церковь.
Иван Петрович поехал домой. В елпановском доме стали с нетерпением ждать приезда архиерея. Тот приехал в Прядеину из Ирбита, и назавтра, в день Иоанна-крестителя, было назначено освящение церкви. Народу было множество: в церковь, построенную на елпановские деньги, пришли не только прядеинцы, но и жители других деревень – Галишевой, Вагановой, Сосновки.
А в доме Елпанова в этот день гостей была уйма: отец Антон, дьякон Варсонофий, псаломщик Никон и церковный староста из Харлово; не обошлось и без волостного начальства – волостного старшины и писаря; были приглашены также прядеинцы – деревенский староста и другие богатые мужики.
Самая большая горница была освобождена от мебели, и во всю ее длину стояли длинные столы, покрытые узорными скатертями. Столы ломились от закусок, кушаний, разных сортов вина и пива.
За столом, где сидел архиерей, пили умеренно – было жарко. Волостной старшина, писарь и деревенский староста с распаренными лицами поблагодарили хозяина за хлеб-соль и встали из-за стола: сидеть просто так при обильной выпивке и закуске было неловко. Даже любитель выпить дьякон Варсонофий – и тот, превозмогая себя, не пил много.
Назавтра, перед тем, как гости стали разъезжаться, Иван Петрович с архиереем остались один на один. Елпанов вручил архиерею несколько сотенных бумажек на нужды епархии и сказал:
– Ваше преосвященство! Заставьте денно и нощно Бога за вас молить… Нельзя ли в Святейшем Синоде о церкви, мной построенной, хоть словечко замолвить? Штоб, значит, и приход в Прядеиной был, и со всем, как полагается, церковным причтом. Мы им и дома обществом построим, и земельные наделы дадим…
– Не беспокойтесь, Иван Петрович, все будет, как вам, строителю храма Божьего, угодно!
Но время показало, что слова эти так словами и остались. Два года из Святейшего Синода не было никаких указаний. Обеспокоенный Елпанов заставил волостного писаря написать и послать в губернию письмо по поводу церкви. Ответа не было целый год, и Иван Петрович хотел уж добиваться приема у митрополита, но тут стало известно, что митрополит умер и на его место заступил другой церковный чин.
Произошли перемены и в харловской церкви. Отца Антона перевели на другое место, а дьякона Варсонофия вывели из духовного сословия – совсем спился Варсонофий и скоро куда-то уехал вместе с семьей. Новый священник, отец Алексей, сразу объявил Елпанову, что служить в часовне в его обязанности не входит. Иван Петрович собрался было с установлением санного пути ехать в губернию, но из губернии на волость пришел пакет, в котором коротко и ясно сообщалось: деревня Прядеина Белослудской волости остается приходом в церковь в селе. Письмо было подписано новым митрополитом.
Нет слов, чтоб описать, как был обескуражен и раздосадован Иван Петрович Елпанов!
«Вот тебе и церковь за свой счет из собственного кирпича… Вот тебе и вечное поминовение! Церковь, знать, стоять будет, пока жив, а умру – дак растащат по кирпичику, как пить дать – растащат!», – горестно думал старик.
Насчет своих дочерей Иван Петрович давно и бесповоротно решил: «Пусть оне в девках подоле поживут да ума накопят». Жене он постоянно внушал, чтобы та больше заставляла дочерей прясть да ткать – нечего, мол, им по вечеркам шастать, пусть приданое себе готовят!
Сусанна с Ольгой, правда, не очень-то над приданым корпели, зато сызмала были борноволоками, но во время пахоты ни бега, ни скачки не устраивали, если даже боронили вместе одно поле и поблизости не было старших. Все делали они хорошо, с душой, на совесть. Да и лошадей они жалели и любили. Работники, глядя на хозяйских дочерей, похваливали их: