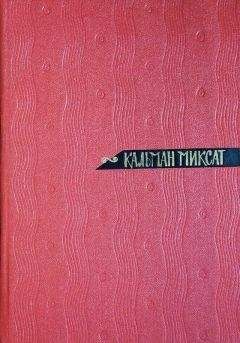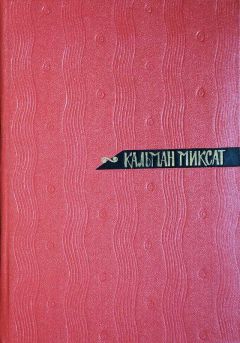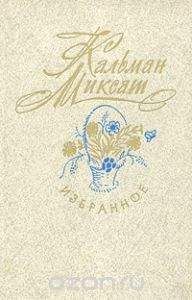Бенито Гальдос - Двор Карла IV. Сарагоса
На площади Сан-Фелипе еще толпился народ, но улица Антон Трильо была пустынна. Мы остановились у глинобитной стены сада и прислушались. Там царила мертвая тишина, дом, казалось, был необитаем. А что, если так оно и есть? Хотя этот квартал меньше остальных подвергался обстрелу, многие семьи переселились в другие места или скрывались в подвалах.
— Я пойду, и ты тоже иди со мною, — сказал Агустин. — Боюсь, что после сегодняшний сцены дон Херонимо, человек подозрительный и трусливый, как все истые скупцы, не сомкнет глаз до утра и всю ночь будет обходить свои владения, полагая, что обидчики вернутся и разграбят его добро.
— В таком случае, — ответил я, — нам лучше не ходить туда вовсе. Страшно не то, что ты можешь угодить в лапы этого изверга, а то, что он учинит большой шум, и тогда все жители Сарагосы завтра же узнают, что сын дона Хосе де Монторья, молодой человек, которому на роду написано увенчать свою голову митрой, завел шашни с дочерью дяди Кандьолы.
Я сказал еще многое другое, но все мои речи были гласом вопиющего в пустыне: Агустин не внял моим доводам, настоял на том, чтобы я шел с ним, подал условный знак своей возлюбленной и стал нетерпеливо дожидаться ответа. Мы стояли на тротуаре против дома Марикильи и, не отрываясь, смотрели на него, пока, наконец, не увидели свет в окне верхнего этажа. Потом мы услышали, как тихо отодвинулся засов калитки и она открылись без малейшего скрипа: очевидно, влюбленная девушка из предосторожности заблаговременно смазала дверные петли. Мы оба пошли в сад и столкнулись лицом к лицу не с ослепительно благоухающей красавицей, исполненной страстного томления, а с угрюмой особой, в которой я тотчас же признал донью Гедиту.
— Нашли время, когда приходить! — проворчала она. — Да еще вдвоем. Только, пожалуйста, не шумите, молодые люди. Идите на цыпочках и упаси вас бог наступить даже на сухой лист, мне кажется, хозяин не спит.
Она говорила так тихо, что мы еле разобрали слова; затем она пошла вперед, знаком велев следовать за нею, и приложила палец к губам, заклиная нас сохранять молчание. Сад был невелик, мы быстро пересекли его и остановились у каменного крыльца, которое вело в дом; не успели мы подняться на шесть ступенек, как навстречу нам вышла стройная девушка, закутанная в шаль, плащ или накидку. Это была Марикилья. Она жестом приказала нам соблюдать тишину, потом с тревогой посмотрела на боковое окошко, также выходившее в сад, и, наконец, заметив, что Монторья пришел не одни, немало удивилась. Агустин постарался ее успокоить:
— Это Габриель, мой друг, мой лучший и единственный друг, о котором ты уже не раз слышала от меня.
— Говори тише! — попросила Мария. — Недавно отец вышел с фонарем из своей комнаты и осмотрел весь дом и сад. Мне кажется, он все еще не спит. К счастью, ночь сегодня темная. Спрячемся под кипарисом и поговорим шепотом.
Наверху крыльца было нечто вроде галереи или балкончика с деревянными перилами. За этой галереей в саду рос могучий кипарис, который отбрасывал вокруг густую тень и укрывал от лунного света. С другой стороны галереи тянулись обнаженные ветви вяза; их причудливые темные отражения на освещенном луною каменном полу галереи казались неведомыми письменами. Марикилья села в тени кипариса на стоявший там стул; Монторья опустился у ее ног и положил руки ей на колени; я тоже устроился на полу рядом с прекрасной парочкой. Как обычно в январе, ночь была тихая, ясная и холодная. Влюбленные, согретые жаром своих сердец, вероятно, не чувствовали холода, но я отнюдь не пылал любовным пламенем и потому поплотнее завернулся в шинель, чтобы не закоченеть на каменных плитах. Тетушка Гедита исчезла. Наконец Марикилья заговорила, и разговор, конечно, тотчас же коснулся весьма неприятной для Агустина темы.
— Сегодня утром я видела тебя на улице. Когда мы с Гедитой услышали крики толпы, которая ломилась в наши двери, я выглянула в окно и заметила тебя на той стороне улицы.
— Это правда, — смущенно ответил Монторья. — Я был там, но мне сразу же пришлось уйти, потому что пора было возвращаться в батальон.
— Неужели ты не видел, как эти звери сбили с ног моего отца? — удивилась взволнованная Марикилья. — Когда какой-то жестокий человек избивал его, я смотрела во все глаза, ожидая, что ты бросишься на защиту моего родителя, но тебя нигде не было видно.
— Я же объяснил тебе, милая Марикилья, что мне пришлось уйти раньше, — отозвался Агустин. — Потом мне рассказали, как грубо обошлись с твоим отцом. Я пришел в такую ярость, что хотел немедленно бежать к вам.
— Спасибо на добром слове. Среди стольких, стольких людей, — со слезами продолжала дочь Кандьолы, — никто, ни одни человек даже пальцем не пошевельнул, чтобы защитить моего отца. Я умирала от страха у себя наверху, видя его в такой опасности. С ужасом мы глядели на улицу. Там были одни враги… Ни одна благородная рука, ни один сострадательный голос не поднялись в его защиту. Среди этих людей был один, самый жестокий. Он сшиб с ног моего отца… Ох, я сама не своя, когда вспоминаю об этом! Наблюдая за этой сценой, я временами прямо цепенела от ужаса. До нынешнего дня я не знала, что такое истинная ярость, это пламя в сердце, этот внезапный порыв, который заставил меня метаться по комнатам, ища… Мой отец лежал на земле, а злодей топтал его ногами, словно ядовитую змею. Глядя на это, я чувствовала, как кровь закипает у меня в жилах. Я уже сказала тебе, что металась по дому в поисках хоть какого-нибудь оружия — ножа, топора, чего угодно. Но я ничего не нашла… Снаружи до меня доносились стоны отца, и, ни на что больше не надеясь, я выскочила на улицу. Потом я оказалась в кладовой, в окружении многих мужчин: непреодолимый ужас снова охватил меня, я не могла сделать ни шагу. Тот же человек, что избил моего отца, протянул мне горсть золотых монет. Сперва я не хотела их брать, но потом взяла и с силой шнырнули их ему в лицо. Мне казалось, что в руках у меня громовые стрелы и я, мстя за отца, мечу их в негодяев. Потом я опять вышла на улицу и, глядя по сторонам, снова стала искать тебя, но не нашла. Мой отец, окруженный бесчеловечной толпой, лежал в грязи и молил о пощаде.
— О, Мария! Марикилья моя! — воскликнул опечаленный Агустин, целуя руки несчастной дочери скупца. — Не надо больше об этом, ты разрываешь мне сердце. Я не мог защитить его… Я должен был уйти… Я же ничего не знал… Я не предполагал, что толпа собралась, чтобы учинить что-нибудь подобное. Разумеется, ты права, но оставь, пожалуйста, эти разговоры: они огорчают и обижают меня, причиняя мне невыносимые страдания.
— Если бы ты встал на защиту моего отца, он был бы тебе благодарен. А от благодарности недалеко и до любви. Ты, наверное, стал бы вхож к нам в дом…
— Твой отец не способен любить, — возразил Монторья. Не надейся, что таким путем мы чего-нибудь добьемся. Будем уповать лишь на то, что неисповедимая воля господня в самую неожиданную минуту приведет нас к исполнению наших желаний. Оставим мысли о мирских тревогах и о том, что ждет нас впереди, нас окружает слишком много опасностей, препятствий и запретов; будем лучше думать о непредвиденном, о божественном провидении и, преисполнясь веры в бога и в силу нашей любви, подождем чуда, которое соединит нас, а оно свершится, Мария, это чудо, подобное тем, какие, говорят, происходили в старину, хотя мы теперь отказываемся в них верить.
— Чудо! — печально воскликнула подавленная Мария. — Ты прав. Уповать можно только на него. Ты — знатный человек, сын благородных родителей, и они никогда не согласятся на твой брак с дочерью сеньора Кандьолы. Весь город ненавидит моего отца. Все избегают нас, никто не приходит к нам в гости: стоит мне выйти на улицу, как люди показывают на меня пальцами, смотрят свысока и презрительно. Моим сверстницам неприятно мое общество, а здешние юноши, которые ночами бродят по городу и распевают любовные серенады под окнами своих невест, проходя мимо нашего дома, поносят моего отца и обзывают меня самыми бесстыдными словами. О, боже мой! Я понимаю, что только чудо может сделать меня счастливой. Агустин, мы знакомы уже четыре месяца, а ты все еще не сказал мне, кто твои родители. Но ведь имя их не столь ненавистно, как мое. Почему же ты его скрываешь? Не потому ли, что ты, наверное, постеснялся бы взглянуть в глаза друзьям и с ужасом отвернулся бы от дочери дядюшки Кандьолы, если бы нам пришлось предать огласке нашу любовь?
— О, не говори так! — взмолился Агустин и, обняв колени Марикильи, уткнулся в них лицом. — Не говори, что я стыжусь любви к тебе, не гневи бога. Это неправда. Наша любовь остается сейчас в тайне, потому что так нужно: но при первой же возможности я открою ее, не страшась отцовского гнева. Да, Мария, мои родители проклянут меня и выгонит из дома. Не так давно, ночью, ты сказала мне, глядя на виднеющееся отсюда здание: «Лишь когда эта башни выпрямится, я перестану любить тебя». А я клянусь тебе, что сила моей любви прочнее этой башни, надежнее этого сооружения, которое вот уже много веков сохраняет свое величественное равновесие и скорое рухнет, нежели выпрямится. Но создания рук человеческих непрочны, творения же природы неизменны и вечно пребывают на постоянных местах. Видела ты Монкайо, этот огромный утес, окруженный множеством других, который, если смотришь из предместья, возвышается на западе? Так вот, я разлюблю тебя не раньше, чем Монкайо надоест стоять на одном месте и он сойдет с него двинется на Сарагосу, наступит на наш город своей пятой и втопчет его во прах!