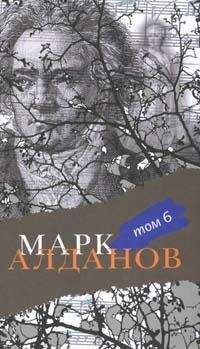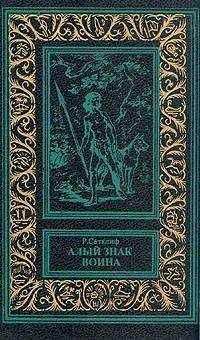Розмэри Сатклифф - Меч на закате
— Печальная история, и она дорого нам стоила — и в людях, и в лошадях. Но похоже, что на Голте нет вины.
Он рывком повернулся ко мне, сверкая широко раскрытыми глазами.
— Нет вины?
— Абсолютно никакой, — ответил я, делая вид, что не так его понял. — И твой доклад был ясным и четким.
— Спасибо, сир, — горько отозвался он. — Что-нибудь еще?
— Прежде всего, хочешь ли ты что-нибудь мне сказать?
— Да. Я хочу просить позволения уйти отсюда.
— И броситься грудью на меч?
— А какое дело милорду Артосу до того, что я сделаю, если я уже не буду принадлежать к Братству?
— Только вот какое — у нас и так не хватает людей, и я не могу потерять еще одного без основательных причин.
— Без основательных причин?
— Без, — подтвердил я и, встав, подошел к нему. — Выслушай меня, Левин. Более десяти лет я считал тебя и Голта одними из лучших и отважнейших моих Товарищей. И это потому, что каждый из вас всегда старался превзойти другого в доблести и стойкости, не из какого-либо соперничества, но чтобы быть достойным своего друга. Так повелось еще с тех пор, как вы были детьми; и неужели ты собираешься осрамить Голта, нарушив старый уговор между вами в первый же час после его смерти?
Он уставился на меня расширенными глазами.
— Может быть, я не такой сильный, как Голт. Я не могу жить дальше… не могу.
Я взял его за плечи и слегка встряхнул.
— Это крик слабака. В том кувшине в углу есть вода; вымой лицо, иди в лагерь и прими командование эскадроном. Выбери из своих парней кого сочтешь подходящим на должность второго офицера — это твое дело, так что не беспокой меня им.
— Ты… ты даешь мне командование эскадроном?
— Несомненно. Ты был вторым офицером у Голта в течение пяти лет, и у тебя есть задатки хорошего командира.
— Я не могу сделать это, — жалобно произнес он. — Артос, имей ко мне хоть немного сострадания, — я не могу. Все, что ты говоришь, — правда, но я не могу жить дальше!
Но хоть он сам того еще не замечал, я уже чувствовал, как он крепнет под моими ладонями, готовясь принять на себя эту невыносимую ношу.
— О нет, можешь. Человек всегда может жить дальше. А что касается сострадания, то я сохраню его для того времени и места, когда оно понадобится. Если Голт смог обломить древко стрелы, чтобы его люди ничего не заметили и не пали духом, и, смертельно раненный, вывел потрепанные остатки вашего эскадрона из засады и привел их в лагерь, то ты можешь вымыть лицо, чтобы остальные не приняли тебя за женщину, взять на себя командование его эскадроном и сохранить его одним из лучших эскадронов в Товариществе, каким его сделал Голт, — я все сильнее сжимал его плечи, впиваясь в них пальцами, пока не почувствовал кость. — Если ты не сможешь этого — значит, ты никогда и не был таким, каким он тебя считал.
В течение одного долгого мгновения он стоял не двигаясь, хотя я уронил руки. Потом его голова очень медленно поднялась и я увидел, как он с трудом проглотил комок в горле; а потом он повернулся и пошел в угол, где стоял кувшин с водой.
Весь остаток этого лета я не выпускал его из вида. Но в этом не было особой нужды. Он показал себя, как я и предполагал, таким же прекрасным командиром, каким был Голт; и в его руках разбитые остатки сплотились и снова стали эскадроном. Он заботился о своих людях и совершенно не думал о себе — он вел себя настолько безрассудно, что, хотя он не заговаривал больше о том, чтобы упасть грудью на меч, было ясно, что он надеется умереть. И, как часто случается с человеком в таком состоянии, смерть обходила его стороной, словно его жизнь была заговоренной.
В тот год мы вели летнюю кампанию почти до конца октября. На севере конница по большей части не может долго оставаться на военной тропе после конца сентября, но эта осень была мягкой, и когда мы наконец въехали в Тримонтиум, чтобы снова устроиться на зимних квартирах, на березах все еще держались последние желтые листья.
У меня оставалось всего несколько дней, и за них нужно было многое успеть, прежде чем ехать в Кастра Кунетиум встречать Гуэнхумару. Но за то время, что у меня было, я, как мог, подготовился к ее приезду. Я обустроил комнату в полуразрушенном офицерском бараке — она находилась по соседству с тем узким помещением, где я спал с тех пор, как мы впервые вступили в Тримонтиум, и была гораздо более просторной. Должно быть, раньше она была столовой коменданта, если судить по грубо намалеванным трофеям и козлиным маскам, которые местами до сих пор проступали, подобные теням, на кусках штукатурки, все еще сохранившихся на одной стене. Я купил у Друима Дху и его братьев — которые покупали и продавали все сообща — толстое полосатое одеяло местной работы и покрывало из мягких бобровых шкур, чтобы прикрыть папоротник, разложенный на постели. Я повесил на самую разрушенную стену изящно вышитое изображение какого-то святого, все в сверкающих синих и красновато-коричневых тонах — цвета зимородка — чтобы закрыть осыпающийся красный песчаник и придать комнате хоть какую-то пышность. Святой был частью добычи, захваченной этим летом у Морских Волков, а они, полагаю, похитили его из какой-нибудь богатой обители в более спокойной области низин. Что ж, церковь могла считать это частью своего долга мне, и в этой мысли было некоторое удовлетворение.
Все это время я чувствовал, что мои люди наблюдают за мной так, как будто не торопятся выносить приговор, который мог стать каким угодно… Это ощущение отнюдь не облегчало дни ожидания. По мере того как шли эти дни, я то с нетерпением ожидал ее приезда, то страшился его, а иногда спрашивал себя, приедет ли она вообще.
Она приехала, и мы при свете факелов торжественно ввезли ее в Кастра Кунетиум. Это была бурная ночь, праздник Самхэйна, канун дня поминовения, и я помню, как полыхали по ветру факелы и как от них плыли по всему наружному двору клубы золотисто-бурого дыма, и свет, подобно ярким крыльям, бился в темноте о лица обступивших нас людей; помню, как конница с лязгом, звоном и топотом копыт вступила в ворота следом за нами. Гуэнхумара ехала между мной и своим братом Фариком; ее плащ трепался по ветру, выбившись из-под застежки на плече. В первые моменты нашей встречи, после почти дневного перехода к западу, я не узнал ее, потому что сейчас, когда ее высокое худощавое тело было обтянуто для удобства долгой езды толстыми штанами, а волосы собраны под мягкую шерстяную шапочку, она была как нельзя более похожа на узкого в кости подростка. И действительно, думаю, очень немногие из столпившегося вокруг гарнизона поняли, кто она такая, потому что я видел, как они тянули шеи, пытаясь разглядеть у нее за спиной жену своего командира. И только тогда, когда наши лошади, простучав копытами, остановились, и я спешился и повернулся, чтобы снять ее с седла, они поняли, в чем дело, потому что, помню, тут они разразились криками.
До этого я не прикасался к ней, потому что при встрече мы не покидали седел. Среди холмов все еще было неспокойно, и мы мчались во весь опор, чтобы успеть в Кунетиум до наступления полной темноты; и за мгновение до того, как она сбросила стремена и соскользнула в мои объятия, во мне проснулось безумное ожидание; но когда я подхватил ее и поставил на землю, то, как и раньше, среди Девяти Сестер, почувствовал, что внутри нее ничего нет, что я мог бы с тем же успехом обнимать один из холодных серых стоячих камней; и на этот раз огонь и жизнь не успели вспыхнуть, потому что она, пошатываясь от изнеможения, тут же отвернулась от меня, чтобы встретить лицом к лицу окруживший ее новый мир; и ее защитные барьеры были как поднятый меч у нее в руке.
Пока Фарик и все остальные соскакивали с лошадей, Бедуир, который снова командовал гарнизоном сторожевого поста, отделился от своего эскадрона и подошел, чтобы поздравить ее с приездом.
Я сказал:
— Гуэнхумара, это Бедуир, мой лейтенант и брат по оружию.
Я раньше гадал, как все будет между Бедуиром и Гуэнхумарой, когда они встретятся; и я так и остался гадать.
Я помню, что он опустился перед ней на одно колено, как перед королевой; помню, как его некрасивое, неправильное лицо улыбнулось ей с легкой насмешкой и его бесшабашная бровь взлетела, подобно раздуваемому ветром пламени факелов; и как он проговорил с тягучей нежностью в голосе, которой я ни разу не слышал у него при обращении к женщине:
— Я никогда не думал, что увижу, как на твердой земле этого старого форта вырастет цветок, — а ведь сейчас даже не лето.
— Рука, владеющая не только мечом, но и арфой, — взгляд Гуэнхумары коснулся вышитого края чехла от арфы, торчащего из-за его плеча. — Скажи, эта любезная нота была выдернута из твоей последней песни?
— Нет-нет — но я могу найти ей хорошее местечко, когда буду сочинять следующую. Что-то подсказывает мне, что ты не питаешь особой любви к менестрелям.