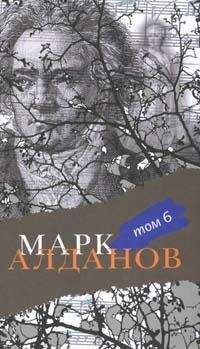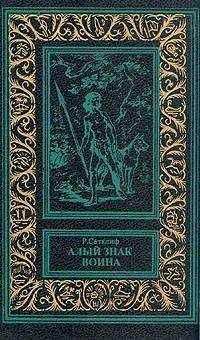Розмэри Сатклифф - Меч на закате
— Я знала только одного певца при отцовском дворе, — мягко возразила она. — Когда дело касается Оран Мора, Великой Музыки, он может перепеть любого из своих собратьев на западном побережье; но я слышала слишком много легких песенок в честь сверкающих волос леди Гуэнхумары — в особенности когда ему был нужен еще один браслет или новый бычок для стада.
— По крайней мере, будь уверена, что мне ни к чему и браслеты, и бычки, — отозвался Бедуир с подрагивающей на губах усмешкой. — И, увы, я еще не видел сверкающих волос леди Гуэнхумары!
Я стоял рядом, и мне казалось, что я наблюдаю за поединком двух мастеров меча, каждый из которых пытается прощупать силы другого, и однако я не мог еще сказать с уверенностью, были ли клинки острыми или затупленными. Позже мне приходило в голову, что они и сами не знали этого наверняка. В ту ночь мы с Бедуиром вместе делали ночной обход, но ни один из нас не сказал ни слова о Гуэнхумаре; а после того как он вернулся в обеденный зал к вечернему свету костра, я ненадолго задержался, облокотившись на полуразрушенный каменный бруствер, до сих пор прикрывающий старые торфяные стены, и вглядываясь в бурную темноту холмов. Я собирался вот-вот последовать за ним, но все еще был там, когда что-то шевельнулось сзади и снизу от меня, и я, резко обернувшись, увидел поднимающуюся на вал Гуэнхумару. Она была плотно закутана в тяжелые складки дорожного плаща, но свет горящей вдалеке смолистой ветки сиял сзади сквозь ее распущенные волосы, окружая их ярким медным ореолом, и по этому и еще, наверно, по тому, как она двигалась, я понял, что она опять переоделась в женское платье.
— Гуэнхумара! Тебе бы следовало быть в постели!
Она протянула руку к Кабалю, который поднялся со своего места у моих ног и приветствовал ее теплее, чем это сделал я.
— Я слишком возбуждена, чтобы лечь спать. Все так непривычно; я чувствовала себя как в клетке в этой маленькой комнатушке, откуда не видно ничего, кроме двора; а снаружи весь этот ветер и темнота, — она подошла ко мне и положила ладони на холодные, изъеденные временем плиты парапета. — Значит, это и есть римский форт — замок Красных Гребней?
— Он совсем не такой, как ты ожидала?
— Не знаю. Наверно, такой. Говорят, что римляне любят заключать свою жизнь в квадраты и огораживать ее прямыми линиями… Кто-то недавно сказал мне, что в римских городах дома имеют высокие квадратные комнаты и что улицы, вдоль которых эти дома построены, такие прямые, точно их прочертили по древку копья. Это правда?
Воспоминание полоснуло меня острой болью, и из темноты и ветра мне на мгновение послышался голос другой женщины, низкий и насмешливый. «Говорят, что в Венте есть улицы, где все дома стоят ровными рядами, и что в этих домах есть высокие комнаты с раскрашенными стенами, и что Амброзий, Верховный король, носит плащ императорского пурпура». И мне захотелось схватить Гуэнхумару в объятия и держать ее крепко-крепко, назло всему, что грозилось отнять ее у меня; бросить вызов Игерне, бросить вызов самому Богу, если будет необходимо. Но я знал, тоскливо и беспомощно, что не смогу даже прикоснуться к ней, пока она мне не позволит.
— Это правда. Во всяком случае, если говорить о богатых домах и главных улицах, — сказал я, надеясь, что мой голос звучит твердо. — За прямыми улицами есть узенькие кривые переулки, и в наши дни они расползаются все дальше, как трава расползается между наезженными колеями на улицах.
— Трава — не римлянка, — со слабым, усталым, похожим на всхлип смешком отозвалась Гуэнхумара. — Она стелется волнами, когда ее пригибает ветер.
— Со временем ты привыкнешь ко всему этому.
— Со временем я привыкну к этому, — согласилась она, — но сегодня все так непривычно — так много незнакомых лиц в свете факелов. Ты знаешь, кроме твоего веснушчатого, как форель, оруженосца я не видела в этой цитадели Красного Гребня ни одного человека из тех, что были с тобой в замке моего отца.
— Они сейчас по большей части в Тримонтиуме, — объяснил я. — Флавиан доехал со мной досюда, а потом поскакал дальше на юг, чтобы провести зиму со своей женой и ребенком.
Она быстро оглянулась на меня.
— Это была его цена?
— Его цена? — какое-то мгновение я не мог полностью понять смысл ее слов и только тупо повторил за ней: — Его цена?
И я думаю, что она, должно быть, догадалась, как все было, потому что внезапно попыталась взять свои слова обратно:
— Нет-нет, это было скверно с моей стороны — хуже того, глупо; я не буду такой глупой, когда немного отдохну. Ты же говорил мне раньше, что, может быть, сможешь отпустить его этой зимой, а может быть, и нет; и я рада, что ты смог его отпустить.
Продолжая говорить, она немного придвинулась ко мне, словно желая загладить какую-то обиду или оплошность, и я понял, что это начало того позволения, которого я ждал; я обнял ее одной рукой за плечи, и мы стояли так бок о бок, опираясь на парапет крепостного вала.
— А как тот парень с волосами цвета ячменной соломы — его звали Голт? — спросила она через какое-то время.
— Почему именно Голт?
— Не знаю. Я подумала о нем в это мгновение — просто промелькнувшая мысль.
— Может быть, это он сам промелькнул мимо нас, направляясь к костру, — сказал я, думая о пустых местах, оставленных у очага в обеденном зале, и о еде и питье, приготовленных для людей, которые больше не приходили во плоти попировать со своими товарищами. Но в эту ночь Самхэйна место для Голта было оставлено в Тримонтиуме, рядом с Левином.
Я почувствовал, как Гуэнхумара вздрогнула и шевельнулась под моей рукой.
— Погиб?
— Почти два месяца назад.
— После него осталась одинокой какая-нибудь женщина — или ребенок?
— Нет, Гуэнхумара.
Теперь я обнял ее обеими руками и притянул к себе, словно пытаясь защитить от чего-то; не знаю точно, от чего. Она была слишком измучена, чтобы почувствовать возбуждение, — выбившаяся из сил, как птичка, которую находишь иногда упавшей на берегу после того, как она проделала долгий путь через бушующее море. Но она прижалась ко мне, словно в этом было какое-то убежище. И я, стоя там на ветру, в пронизывающей, брызжущей темноте, вдруг почувствовал вокруг свет, силу и спокойствие; и мне показалось, что власть Игерны не может длиться вечно, что с ней даже можно бороться и победить ее, и что в конце я смогу быть свободным, и вместе со мной — Гуэнхумара.
— Пусть огонь будет для него теплым, — тихо произнесла моя жена в складки плаща у меня на груди, — или пусть птицы Рианнона споют для него, если это менее больно — забыть.
(«Забыть… Забыть… Ты, что, боишься услышать пение птиц Рианнона, которое заставляет людей забывать?»)
И свет померк, и я осознал, что ветер Самхэйна несет с собой безотрадный холод, что дождь сыплется мне на шею, и что никто не может ускользнуть от своей судьбы. Я поцеловал Гуэнхумару, и это было как поцелуй на прощание.
— Любовь моя, ты должна пойти в дом и лечь спать.
Она поцеловала меня в ответ с бесконечной и восхитительной добротой, как сделала это в нашу брачную ночь.
— Тогда приходи скорей, Артос Медведь, потому что здесь очень одиноко.
— Я приду скоро, — пообещал я.
И она высвободилась из моих объятий и спустилась с вала.
Глава девятнадцатая. Обитель Святых жен
Флавиан вернулся ранней весной, еще до того, как к нам пробились первые за этот год повозки с провиантом. Я выезжал за крепостные стены на старом Ариане, начиная долгий труд по приведению его после зимы в боевую форму, и мы с Флавианом встретились — так неожиданно, что лошади с топотом шарахнулись в стороны, — у поворота, где дорога на Кунетиум выныривает из тени речного ущелья. «Артос!» — крикнул он; «Малек!» — закричал я, и мы, смеясь, восклицая и ругая лошадей, перегнулись с седел, чтобы ударить друг друга по рукам, а Кабаль тем временем прыгал вокруг, бешено виляя хвостом.
— Как дела у Телери и ребенка? — спросил я, когда мы успокоили животных и повернули их к воротам Тримонтиума.
— У обоих все замечательно; он прекрасный малыш и уже пользуется своими кулачками как настоящий боец, — он говорил медленно, с обращенной внутрь улыбкой человека, оглядывающегося на прошедшее счастье, которое было таким полным, что он все еще чувствует его вкус. Потом его голос изменился: — Значит, она приехала?
— Гуэнхумара? Приехала. Но с чего ты это взял?
— У тебя новый плащ.
Я глянул на темный плащ из толстой шерсти, который набросил на себя для защиты от мартовского ветра, пронизывающего насквозь, как нож скорняка. Гуэнхумара не успела пробыть в Тримонтиуме и двух дней, как уже попросила ткацкий станок, а когда двое наших плотников смастерили его, первое, что она соткала на нем, был плащ для меня.
— У меня новый плащ, — согласился я, — но разве он обязательно должен быть соткан Гуэнхумарой?