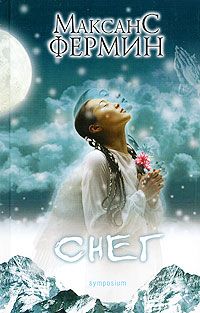Сергей Львов - Гражданин Города Солнца. Повесть о Томмазо Кампанелле
Кампанелла отринул Мавриция от своего сердца. Но все-таки после казни думал о том, как подло поступили с Маврицием. То, что он сделал, он сделал ради спасения души. А его предали позорному четвертованию, после которого не похоронят в священной земле, а зароют на свалке, как собаку. Кампанелла не верит, что для души человека имеет значение, где и с какими обрядами будет похоронено тело. Но бедный Мавриций свято верил в силу обрядов, заупокойных молитв, освященной земли, посмертных месс. Если бы он знал, что его лишат всего этого, может быть, он не пошел бы на признание. Тогда все могло бы повернуться иначе. Бессмысленно теперь ломать себе над этим голову.
Путешественник, приехавший в Неаполь из Рима, принес экземпляр газеты «Аввизи» в дом делла Порты. Там прочитали статью, неведомый автор которой негодовал, что сожжение известного и нераскаявшегося еретика Джордано Бруно не состоялось в день, когда его ожидали римляне, собравшиеся по этому случаю на площади Цветов. Читавшие этот листок изумились безмерной подлости писаки, который высказал разочарование по такому поводу. Жив ли Бруно? Увы! Спустя несколько дней из Рима пришли письма с известием, что отложенное аутодафе состоялось. Друзья не знали, говорить ли Кампанелле об этом. Со времени встречи в Замке Святого Ангела он глубоко чтит Бруно. Не будет ли такое известие непосильным потрясением для человека, которому и без того тяжело? С другой стороны — не нужно ли Кампанелле знать, как велика опасность, ожидающего его, если он… Если что? Что может он сделать, чтобы отвратить опасность? Поколебавшись, ему передали горькую весть.
Воистину, кого господь хочет покарать, того он лишает разума! Кампанелле представились все эти инквизиторы и цензоры-квалификаторы, для которых день, когда славнейший из славных — Бруно взошел на костер, был доказательством, что едят они свой хлеб не даром. Никогда, ни за что не поверит он, что Конгрегация Святой Службы и Конгрегация Индекса запрещенных книг существуют по велению божьему. И то и другое — пагубные и вредоносные измышления низких душ. Их страшит свободная человеческая мысль, им ненавистен разум, они хотели бы все и навсегда заковать в оковы, всем надеть на глаза повязки, всем заткнуть рты.
В вестях, дошедших до Рима, были некоторые разногласия. Говорили, что Бруно, уже привязанный к столбу, поцеловал распятие и произнес слова покаяния. Нет, утверждали другие, этого он сделать не мог. Когда Бруно вели к месту казни, губы его были зажаты тисками, дабы он не смущал толпу еретическими речами. На костре ему поднесли распятие, Бруно гневно оттолкнул его. Тогда палач стукнул его сзади по затылку — это видели только те, кто стоял особенно близко к костру — Бруно ткнулся лицом в распятие, так что в толпе показалось будто он целует его.
Несколько дней и ночей Кампанеллы были заполнены мыслями о Бруно. То наяву, то во сне видел он себя на его месте. Ему казалось, что языки пламени лижут его кожу, дым ест глаза. Он задыхался. Силился вообразить, что испытывает человек, когда его сжигают заживо, гнал от себя эти мучительные представления и снова вызывал их в себе. Я должен быть готов и к этому!
Тяжкой, очень тяжкой порой в жизни Кампанеллы оказался февраль 1600 года.
В феврале он провел несколько страшных дней в «яме для крокодилов», в феврале он узнал о том, что Бруно сожгли на костре, в феврале трибунал, заседавший в Кастель Нуово, получил из Рима разрешение пытать Кампанеллу. Он знал, рано или поздно этот день или эта ночь настанет, и будут они страшнее тех, что выпали на его долю в Замке Святого Ангела. Один из тюремщиков, то ли сочувствуя ему, то ли действуя по указке судей, сказал Кампанелле, что для него велено привести в порядок особое устройство, и лучше бы Кампанелле обойтись без знакомства с ним.
Кампанеллу лихорадило, он был очень слаб после «ямы для крокодилов». Как вести себя дальше? После показаний, которые судьи хитростью и коварством получили у Мавриция, Петроло, Пизано, просто отрицать все бессмысленно. Надо менять тактику. Пусть Петроло и Пизано показали даже то, чего на самом деле не было; суд не примет этого во внимание. Для инквизиционного суда имеет вес только показание, которое отягощает вину обвиняемого. Если же Мавриций, сознаваясь, и пытался сказать что-то в оправдание Кампанеллы, с этими показаниями никто считаться не будет. Ибо сказано в наставлении для инквизиторов: «Показания еретика в пользу обвиняемого могут быть вызваны ненавистью к церкви и желанием помешать наказанию преступлений, совершенных против веры. Подобные предположения не могут возникнуть, если еретик дает показания против обвиняемого».
Мавриций в глазах суда еретик, ибо восстал на земную власть, а она от бога. Это и определяет отношение трибунала к его словам: все, что можно использовать против Кампанеллы, будет использовано; все, что говорит в пользу Кампанеллы, будет отброшено. Не следует заблуждаться. Судьи знают уже очень много. Если по-прежнему отрицать все, с ним поступят как с нераскаявшимся еретиком.
Тюремная почта в феврале разнесла по камерам весть: Кампанелла под пыткой начал давать показания. Его допрашивали несколько раз и несколько раз пытали. Он перестал отрицать все то, что ставилось ему в вину и о чем уже говорили другие, но пытался истолковать свои действия как направленные на благо Испании. До такой дерзости договорился, что стал утверждать, будто калабрийский заговор имел в виду помочь возвышению Испании. А еще Кампанелла твердил, что во всех своих словах и делах оставался верен святой церкви. Он ссылался на людей, которые могли бы подтвердить его показания, если бы были живы, цитировал богословские тексты, говорил о предзнаменованиях, утверждал, что, поскольку он все это повторяет под пыткой, слова эти — сама истина. Порукой в том страдания, которые он переносит.
Поймут ли друзья, что означают его полупризнания? Найдет ли он способ объяснить им, что силился под пыткой оттянуть время, придумать новый способ защиты, запутать судей своими рассуждениями? Ведь он не сказал ничего, что не было уже известно судьям. Имена? Он назвал лишь тех, кого уже не было в живых, кому ничто уже не могло повредить. Он не сдался и не сдастся.
История военного искусства — одно из его увлечений — научила Кампанеллу: если прорван один рубеж обороны, надо отходить на другой. Твердить «я ни в чем неповинен» легче, чем придумывать уклончивые многословные ответы. Неужели друзья не поймут, что у него нет иного выхода? Если его признают нераскаявшимся, его казнят. Мертвый, он ничем и никому помочь не сможет. Живой, он еще попытается бороться.
И все-таки, когда он возвращается в свою камеру с допросов, после которых в протоколах появляются длинные записи его ответов, где рассуждения о всемирной республике, ни в чем не покушающейся на права испанской монархии и римского папы, а, напротив, служащей их вящей славе и могуществу, чередуются с длинными ссылками на Святое писание, с астрологическими пророчествами, предвещающими неизбежность великих и благих перемен, у него на душе нехорошо. Отвратительно у него на душе. Горькая оскомина остается на губах, вынужденных отвечать судьям так, как отвечает сейчас он.
Всю крепость взволновал слух: «Кампанелла стал признаваться!» Он не может его опровергнуть. Он действительно стал признаваться. Надо объяснить друзьям, почему он говорит то, что он говорит, и как им, зная об этом, вести себя на допросах. Как это сделать? Надзирателей, которые иногда помогали ему передать калабрийцам если не записку, то хоть условный сигнал, тайную весточку, больше нет подле его камеры. Все время появляются новые. Один из них очень жалел Кампанеллу, которому пришлось — слыханное ли это дело! — столько времени провести в «яме для крокодилов», а потом перенести пытку, давал понять, что сочувствует ему, вызывался помочь, Кампанелла отказался. Может быть, он еще пожалеет об этом. Но суетливая готовность нового тюремщика насторожила его. Тяжко было у него на душе. Тяжко и смутно. И мрачными стали его сонеты. Такими они не были никогда прежде.
Он сетовал в них, сколь слепа и безумна Италия, мудрость которой спит беспробудным сном. Он хотел ей лишь добра, он не причинил ей никакого зла. Почему она так жестока к нему? Бог уснул на небе, если дозволяет презренным лжецам, вырядившимся в одежды благочестия, торговать обманом и предавать истинную веру. Он написал сонет, в котором говорил о своей слабости, и другой, в котором восхвалял непоколебимое мужество Дионисия. Он говорил, что препоручает ему их общее дело и по первому слову друга готов покончить с собой. Был написан такой сонет, возникала такая мысль, и этого не вычеркнешь.
Одно утешение даровано ему в эти тягостные дни вынужденного отступления. У Дионисия был брат — священник Пьетро Понцио. С первого дня знакомства он восхищался поэтическим даром Кампанеллы. Пьетро Понцио был тоже схвачен, тоже совершил страшный переход и плавание из Калабрии в Неаполь. Теперь, в тюрьме, он собирает все, сочиненное Кампанеллой. Никогда впоследствии никому не удалось узнать, как именно делал он это, только Пьетро Понцио не просто старательно хранил переписанные стихи Кампанеллы, но даже, идя на отчаянный риск, передавал их на волю.