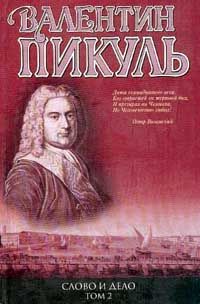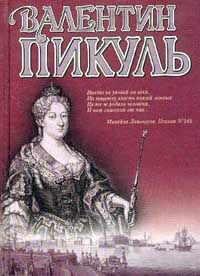Питер Грин - Смех Афродиты. Роман о Сафо с острова Лесбос
— Что было, то было. Дело прошлое. Пусть возвращаются.
— Ты и на месте Мирсила сказала бы то же самое? — В голосе тетушки Елены звучала едва уловимая усмешка.
— Я могу говорить только за себя, тетушка Елена.
— Что ж, будь по-твоему, — сказала она.
Три дня спустя изгнанникам было милостиво даровано прощение. Церцил как раз проходил мимо Совета, когда на его дверях вывешивали указ об амнистии, и подслушал разговор двух ремесленников: «Мирсил-то совсем распетушился, решил, что владычество — навечно!» — «А чего ты от него хочешь? Совсем уж стар, скотина, а хоть бы раз за всю жизнь чихнул! Да этот буйвол протянет еще добрые десятка три!» — «Еще тридцать лет под Мирсилом? Могила». (Знала бы я с самого начала, что в этом откровенном обмене мнениями содержится ключ к разгадке тайны…)
Не могу назвать точно день и час, когда образовался наш художественный кружок. Не успела я сойти с корабля на родную землю после пяти лет изгнания, как меня сразу же пригласили участвовать в подготовке городских празднеств. Я обучала девушек хоровому пению, давала им уроки музыкальной техники, которые сама усвоила от Ариона; сочиняла гимны, ну и конечно же неизменные свадебные песни. Правда, обычно я выдавала за новое давно готовенькое, сочиненное на Сицилии. Не вижу в этом ничего страшного. Сиракузы далековато от Митилены, и мои сограждане, заказавшие новинку к свадьбе сына или дочери, скорее всего не узнают, что ее давно уже пели на торжестве другой влюбленной четы…
Моя поэтическая слава летела как на крыльях, и я тогда — с благословения и при поддержке Церцила — отдала в переписку свой первый свиток стихов, который назвала «Крылатые слова». Один из тех свитков развернут сейчас передо мной. В нем немало стихов, о которых мне теперь хотелось бы забыть (а какому поэту не приходилось сожалеть об иных своих ранних, наскоро написанных строчках?). Впрочем, причина видится мне отнюдь не в хромоте слога: слишком уж бесхитростными и просторечными кажутся мне те стихи по прошествии стольких лет. В свое время они пользовались бешеным успехом, стяжали мне славу и почет, но теперь я догадываюсь, в чем дело: большинство читателей были попросту заинтригованы, кто же та моя возлюбленная, что скрывается за поэтическими строками.
Так я, сама того не сознавая, увлекла за собой лучших своих подружек, которых объединяла неодолимая тяга к искусству. (Не знаю почему, но в Митилене, не в пример большинству других городов, мало людей искусства среди мужчин: все те же Арион, Алкей да один-два угрюмых собирателя древностей. Спросите Антименида, почему так случилось, и услышите в ответ: это по причине нашего критского происхождения.) Первоначально живой душой нашего кружка были Аттида, Мика и моя двоюродная сестра Мегара. Несколько раз с нами выступала Телесиппа, но, по-видимому, она не могла решить, рядом с кем она будет ярче и заметнее: с нами или же с соперницами во главе с Андромедой. В том кружке особенно блистали Горго и ее сестра Ирана.
Вот тут-то и возникли трения. К примеру, Харакс — мой брат, но вместе с тем и супруг Ираны, который, как это ни удивительно, потакает всем ее выдумкам и желаниям. Горго и Ирана блистают в кружке «Новое искусство», возглавляемое Андромедой (где нередко можно услышать и хвалу Мирсилу), а брат и Ион, как и его отец — дядюшка Драконт, остаются преданными идеалам аристократии. Но и Драконт очутился в щекотливом положении: из-за брака тетушки Елены он оказался шурином Мирсила… Что и говорить, общественная жизнь Митилены в эти годы была как запутанный клубок. Теперь, правда, стало несколько полегче, но и поныне в каждой семье хранится список лиц, которых нельзя одновременно приглашать к обеду.
Итак, наш кружок стремился притянуть к себе единомышленников и таким образом создать свою теплую творческую обстановку. Друзья представляли новых друзей — гостей из Милет, Колофона или лидийских Сард. Вскоре у нас образовался открытый дом — каждый день концерты, поэтические вечера, жаркие споры, прогулки за город. Начинающие поэтессы, заливаясь от смущения румянцем, приносили мне на суд свои поэтические опыты, спрашивая совета. Так мы, сами того не осознав, стали зачинательницами движения, о существовании которого нам объявили чужие — многочисленные! — уста.
Название ему предложил не кто иной, как Церцил. Однажды, возвратясь домой, он увидел, как мы сидим в уютном тесном кругу за чашей разбавленного вина[128], щелкаем орешки и спорим о Гомере, сосчитал наши головки — оказалось девять — и сказал: «Мне кажется, я вторгся в дом, где обитают музы. Девушки, о богини, простите простого смертного за то, что вмешался в ваши рассуждения!» — «Да ладно уж, оставайся, — рассмеялись мы, — так и быть!» Вечер возымел большой успех, и после этого мы ввели в обычай приглашать на наши дискуссий одного-двух гостей мужского пола. Что же касается названия, то мы решили: отныне называемся «Дом муз».
Прошло немного времени, и обо мне повсюду разнеслась слава как о мудрой, знаменитой наставнице школы особо одаренных девушек из благородных семейств. Неудобная роль, с которой я так никогда полностью и не свыклась. Она означала для меня врастание в новый образ жизни, если хотите, в новую философию. Со всех концов Эгейского мира родители присылали ко мне дочерей учиться поэтическому мастерству, музыке и изящным искусствам. Поначалу у меня вовсе не было задумки вести обыкновенные школьные занятия, но однако вполне естественным образом сложилось так, что все, кто желал обучиться технике музыки или стиха, шли за советом ко мне, а будущих художниц взяла под свое покровительство Мика. Однажды сложившись, такой уклад жизни в нашем Храме муз оставался почти неизменным до конца его существования.
Конечно, наши отношения, о чем без устали твердили злые языки, были крепко замешены на земной любви. Но если любовь, которую испытывает к учительнице ученица, послужит постижению ею мира человеческих отношений не меньше, чем чистый разум, что же тут такого? Оглядываясь назад, я прихожу к пониманию, что наш «Дом муз» во многом держался на нашей с Аттидой взаимной любви. Это была яркая, преображающая страсть, которая озаряла своими лучами весь наш мир. Она была как щедрое солнце, которое всех одаряет теплом и светом. Мы были неразлучны, счастливы в жизни, которую делили друг с другом, — чего ж нам желать больше?
Но, как это ни странно, мы не были любовниками в прямом смысле этого слова, во всяком случае поначалу. Текли блаженные безмятежные месяцы невинности. Я знала, что в любое мгновение могу сделать последний шаг, — и всякий раз сдерживала себя, не будучи в состоянии объяснить эту сдержанность даже самой себе. Видимо, я подсознательно чувствовала, сколь хрупка и преходяща чистота наших отношений — словно тонкий стеклянный шар, готовый в любое мгновение рассыпаться в искрящуюся на солнце пыль от малейшего прикосновения. На этом я прерываюсь, не выпуская пера из рук, — я не желаю приговаривать себя к необходимости запечатлеть на папирусе безжалостное слово действительность…
Ну а у брата моего Харакса совсем иные представления о счастливой жизни и способах ее достижения. Шевельнув жениным приданым, он купил и оснастил одно из самых крупных торговых судов, которые когда-либо видели в гавани Митилены. Нанял надежный экипаж, положил ему жалованье по самым высшим ставкам. Затем, не спросясь ни меня, ни Лариха, пользуясь своим положением главы семейства, выскреб все свои и наши запасы лучшего оливкового масла и вина до последней амфоры и погрузил на корабль.
Когда все это выяснилось, корабль уже давно на всех парусах несся к Египту. Не желая никому доверять столь ценный груз, Харакс ушел в плаванье сам. Все в городе единодушно решили, что он не в своем уме, а доброжелатели прожужжали Иране все уши россказнями про алчных пиратов, грозные бури и страшных морских чудовищ. Впрочем, если быть предельно честной, то я не уверена, заставило бы известие о гибели супруга дрогнуть ее трепетное крохотное сердечко. Другое дело, что мысль о возможности потери приданого превосходила то, что это сердце могло вынести.
Итак, когда в положенный срок вестовые сообщили о том, что корабль Харакса, борясь с встречными ветрами, движется от Хиоса на север, то чуть ли не весь город собрался на набережной посмотреть, как он будет становиться на якорь. Было ясное утро, веяло дыханием поздней осени, — по мнению скептиков, слишком поздней для плавания даже на Крит, не то что в дальние края. Но Харакс оказался баловнем судьбы. Когда загрохотали цепи и огромные, словно луки, якоря тяжело плюхнулись в воду и тяжелый усталый корабль намертво стал у причала, я даже позавидовала — если не сказать больше — удаче своего братца, который, вопреки всему, вышел из игры победителем.
Харакс спустился по сходням, важно потирая руки и самодовольно улыбаясь. Мне показалось — если это был не обман зрения, — что мой братец сделался еще жирнее, чем был, когда отправлялся в поход; картину дополняла пышная черная борода. Вдобавок этот откормленный на убой боров был совершенно белым, как будто всю жизнь прожил в подземелье, — по-видимому, солнечные лучи не оказывали на него совершенно никакого воздействия. Моя зависть, к которой примешивалась толика невольного восхищения, переросла теперь в осуждающее отвержение. Я не знаю ни одного человека, который бы так умел внушать к себе отвращение, как мой брат. Он поймал мой взгляд (я была в одной группе с Ларихом, Аттидой, Исменой, здесь же были мои двоюродные братья Агенор и Гермий), помахал мне ручкой, ухмыльнулся и пропал в толпе многочисленных портовых чиновников, предъявляя им некие документы, — очевидно, накладные на привезенный товар. Затем он с торжествующим видом направился к нам, обливаясь потом; его пузо выпячивалось сквозь складки новой холщовой рубашки, — видимо, такие были тогда в моде в Египте. От него разило странным густым приторным запахом духов. Харакс, даже когда ему улыбалась удача, любил показать всем оскал своих зубов. Его черные глубокие глаза перебегали с лица на лицо, когда он кивал нам в знак приветствия.