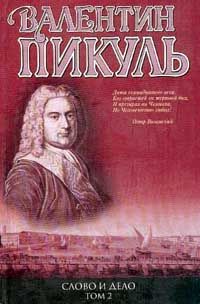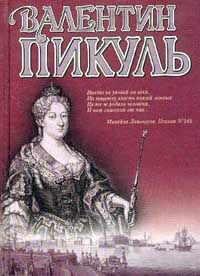Питер Грин - Смех Афродиты. Роман о Сафо с острова Лесбос
Еще труднее было признаться себе в том, что причиной такой перемены в моем отношении к тетушке Елене стала ее не знающая удержу плотская жизнь. Ужель я сделалась такой ханжой? Сомневаюсь. Нет, дело здесь, очевидно, в другом. В мои отроческие годы тетушка Елена представлялась мне воплощением всех аристократических добродетелей, личностью, для которой за понятием веры стояло нечто большее, чем общепринятый религиозный смысл. Когда же я увидела, как она алчно гонится за собственной выгодой, ревностно следя за восхождением Питтака к вершинам власти, я была поражена. Я и представить себе не могла, в коей мере это явится потрясением основ моего внутреннего мира. Мы сделались друг для друга почти что чужими.
Через несколько дней после того, как Церцил побывал на обеде у Мирсила, она пришла меня проведать. Я вела себя с ней учтиво, почтительно, даже старалась казаться дружелюбной, и в то же время держала ухо востро. У каждой из нас было множество нераскрытых тайн, в которые мы не собирались посвящать друг друга. Кое-где истина затерялась в трясине личных ревностей, политической лжи, жажды власти, которая разрушает личность куда сильнее, чем любая плотская страсть.
В общем, неуклюжий у нас получился разговор, и все то время, пока мы беседовали, тетушка Елена не сводила с меня взгляда. Ее огромные топазовые глаза сделались теперь темными и непрозрачными, веки отяжелели, а резкие, четко очерченные вокруг рта линии выдавали в ней преисполненную гордыни женщину, которая ради достижения своих целей, глазом не моргнув, переступит через что угодно. На низеньком столике между нами стояла серебряная ваза с розами; два-три осыпавшихся лепестка плыли по отполированной поверхности, точно лодочки по глади моря в тихую погоду.
— Знаешь, мне так не хватает твоей матери, — сказала тетушка Елена. — Уж так получилось — нам никогда ни в чем не удавалось прийти к согласию, но я уважала ее за целостность и прямоту.
— Мне ее тоже не хватает, тетушка Елена. Я думаю, только перед самой ее смертью мы понемногу начали приходить… приходить к пониманию друг друга.
У тетушки Елены слегка сузились зрачки. Она явно стремилась залезть мне в душу: какие же тайны мне ведомы?
— Похоже, мы начинаем понимать наших родителей, только когда они в могиле и более не досаждают нам, — сказала она.
— Видно, так оно и есть, — улыбнулась я, — только вот в чем дело: счастье — когда тебя понимают, несчастье — когда раскусили. Не думаю, чтобы моя матушка так уж жаждала, чтобы ее раскусывали и оценивали, и в особенности я. Ты же помнишь — всякий раз, когда я выказывала ей особую привязанность, она принималась особенно чудить.
Тетушка Елена взяла со стола лепесток розы и задумчиво принюхалась к нему.
— Ты так похожа на нее, Сафо. Не обиделась, что я тебе это сказала?
— Да нет, что ты. Я сама прекрасно знаю.
— Что ж, — кивнула она. — Изгнание тебя многому научило. Так ведь?
Я снова улыбнулась; мои пальцы ощупывали тяжелые холщовые складки нового платья, которое я в тот день в первый раз надела.
— И что же, я должна быть благодарна тем, кто меня туда послал? — спросила я.
— Возможно. Ты вернулась оттуда выдающейся личностью. Ты теперь знаменитая поэтесса, модная молодая дама, далекая от политики, замужем за человеком, который в равной мере очарователен и загадочен, как и ты.
— А что, разве я похожа на Сфинкса? Как замечательно! — воскликнула я. (Про себя я задавалась вопросом, что же такое Мирсил попросил тетушку Елену выведать у меня, когда разговор к этому подойдет. Это был один из тех вопросов, которые я сама себе задавала.)
Внезапно тетушка Елена спросила:
— Когда ты в последний раз слышала об Антимениде?
— Я получила от него письмо как раз перед тем, как покинуть Сицилию. Он был в это время в Вавилоне.
— А об Алкее?
Я пожала плечами:
— Так тебе, наверное, известно больше моего. Сама же знаешь, он никогда не пишет.
— Пожалуй, письма он действительно не пишет.
(Улыбнувшись, я вспомнила скандальные стихи о плотской страсти тетушки Елены, которые мне переслала мать. Ходили слухи, — да и до сих пор не улеглись, — что написал эти стихи не кто иной, как Алкей.)
— А зачем же ты спрашиваешь? — поинтересовалась я, стараясь выглядеть как можно безучастнее.
— Положим, — сказала тетушка Елена, — им великодушно даруют прощение и разрешат вернуться. Как ты думаешь, можно будет поручиться за их поведение?
«Так вот к чему она клонит», — подумала я.
— Но ведь за такие решения отвечает городской Совет. Я-то здесь при чем?
Тетушка Елена пожала плечами:
— Конечно, последнее слово остается за Советом. Но это сложная проблема. Ты знаешь об обоих — и, пожалуй, лучше, чем кто-либо еще. Ты была у них в доверии, да к тому же имеешь недавние вести от Антименида — должно же у тебя быть какое-то представление о том, что у них на душе.
— Даже если бы это было так, — сказала я, — все равно я пребываю в полной уверенности, что мне не следует отвечать на подобные вопросы.
— Совет обязуется не разглашать твое мнение.
— Ну, допустим, — согласилась я.
Мне стало предельно ясно, что последует далее.
— Понимаешь, твое собственное положение пока несколько щекотливо, — сказала тетушка Елена. — Твой испытательный срок еще не закончился. Вот для тебя прекрасный случай показать свою благонадежность.
Я сидела, глядя на вазу с розами, размышляя над недвусмысленностью этого последнего замечания. Со времени своего возвращения с Сицилии я тщательно избегала ситуаций, которые могли бы заставить меня высказать, что у меня на уме. Мол, меня интересуют только чисто человеческие взаимоотношения, и ничего сверх этого. И, надо сказать, эта занятая мной позиция оправдывала себя. И вот теперь мне неожиданно приходится решать, с кем я, на чем стою, кому я предана — если есть кто-то, кому я предана.
Если я иду на соглашательство с режимом Мирсил а, разве я таким образом не теряю право противостоять ему? А по большому счету, так ли я этого хочу? Разве я не удалилась от аристократических идеалов так же, как сама тетушка Елена? Ведь в глубине души никто из нас не верил, и меньше всех я, что старые дни когда-нибудь вернутся. Об этом как нельзя красноречивее сказал Антименид за день до обреченного на неуспех захвата цитадели. Алкей, если судить по его поведению в изгнании в Пирре, это также сознавал.
Но значит ли это, что они изменили своей непоколебимой преданности делу? Я не могла в это поверить, и последовавшие вскоре события подтвердили, что я была права. Я помнила письма Антименида, как помнила его последние, твердые слова, сказанные в палате Совета Благородных: «Я все равно убью тебя, Мирсил. Клянусь в этом своей головой». Боги — да и его собственная гордыня — обрекли Антименида на то, что итогом его жизни могло быть только жестокое поражение. У него не было другого пути.
Но Алкея, в котором твердость политических убеждений оказалась самым нелепым образом замешена на трусости сердца, ждало еще более кошмарное будущее. Ему придется, скрежеща зубами, в бессилии, покориться режиму, который он ненавидит и который сочтет самого Алкея не просто не опасным для себя, а смехотворным! Кто он такой? Попросту спившийся, опустившийся, больной аристократ, которого великодушно терпят только за то, что он в былые годы состряпал горстку неплохих стишков о цветочках, пташках небесных, про то, что вслед за весной приходит лето, и тому подобных безобидных вещах!
Не будет ли более благоразумным и более мудрым, спрашивала я себя, удержать этих людей от возвращения домой, которое их наверняка погубит? Все, что мне для этого требовалось, — высказать недвусмысленно и откровенно такую мысль. Как только эти двое высадятся на Лесбосе, Мирсил (а может быть, и не только он) окажется в смертельной опасности.
И все-таки Алкей и Антименид были моими друзьями. Могла ли я одним словом обречь их — возможно, навсегда — на медленное умирание в изгнании?
Тетушка Елена не спускала с меня глаз, стараясь уловить самое незначительное изменение выражения моего лица. Похоже, она испытывала наслаждение от того, что поставила меня перед необходимостью выбора, за который я должна буду нести ответственность перед людьми и собственной совестью. Она лучше меня знала о моей бессознательной ненависти к Мирсилу, и расспросы явно забавляли ее. Я только одного не могла понять: почему она так допытывалась у меня о благонадежности Антименида и Алкея? Не могло же, в самом деле, мое мнение оказать сколько-нибудь серьезное влияние на решение городского Совета.
Нет, конечно! Я думаю, дело вот в чем: по каким-то личным соображениям, о которых я могу только догадываться, она решила втянуть меня в цепочку событий, которые последуют за решением Совета и с которыми, коли я дам тот ответ, коего она ожидала — и какой я дала и впрямь, мне придется смириться.