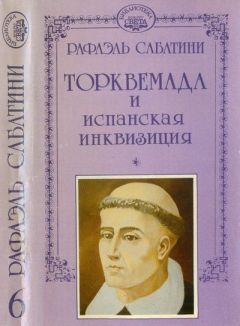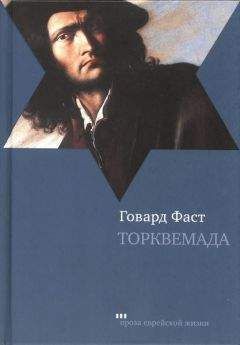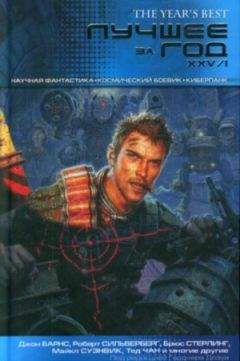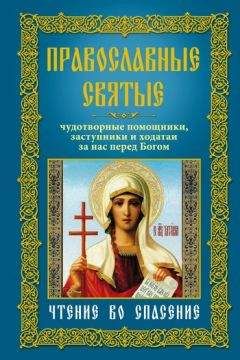Аркадий Савеличев - Савва Морозов: Смерть во спасение
Хорошо, что погода баловала. Ведь никакой зал не вместил бы такой именитой орды. Именье при заводе знатное, но не Спиридоньевка московская, конечно. В саду, под роскошными уральскими лиственницами, раскинули столы — этак сажень в тридцать. Гулять так гулять, по-уральски!
И посмеяться не грех. Савва был в белом полотняном костюме, Чехов в мягкой летней нанке, но ведь остальные‑то — как на парад к губернатору. Суконные плотно застегнутые сюртуки, тугие крахмальные манишки. Не видно под скатертями столов, но, может, кто и в новомодных резиновых галошах? Вот молодец пароходчик Мешков — сюртук так весело на сторону швырнул, что кредитки из кармана веером по ветру полетели. Ему что: жеребячье гы-гы!.. Хороший мужик Мешков. Тоже с волжско-камских берегов, из старообрядцев, но из молодых, поклоны в молельне бить не будет — разве что вот так, за столом, уже и без галстука, в залитой вином манишке:
— Наше нижайшее драгому Савве Тимофеевичу! — лбом увесистым до стола. — Нашим немецким друзьям — гутен таг, гутен таг! — Поскромнее, но тоже гулко стукнулся лбом. — Лучшему и величайшему писателю Антону Павловичу Чехову! Где Антон Павлович!
Народ тут был деловой, книжки только расходно-приходные читали. Почти не обращали внимания на высокого, бледного, застенчивого господина в пенсне. Разве что голоса:
— Доктор, что ль, Саввушкин?
— Да, пожалуй, что и личный доктор.
— Ишь его, Морозов наш как царь-государь ездит! Со свитой непременной.
— Даже с немцами!
Немцы тоже на жаре водку хлестали. О купцах и говорить нечего. Да и заводские служащие — рады, что были приглашены хозяином. Где же и попить-поесть, как не за хозяйским столом? Тем более что хозяин подбадривал:
— Ешьте-кушайте! Кто там еще не пьян?
— Да доктор разве что.
— Не нравится, вишь, ему!
У Саввы Морозова и под хмель хватило ума, чтобы не просвещать здешний народ. Если кто и слышал фамилию Чехов, так за столом забыл. Но должность его все‑таки вспомнили:
— Говоришь, доктор? А говорили еще — и писатель?
— А как же Савве без писателя!
— Ну, ежели по письменной части. Делов‑то сколько! Переписка! Бумаги. Кляузы. Жалобы. Письмоводитель, ох, должон быть человек дошлый. Вот у меня, например, семинарист! Знай наших!
— Знаем, а как же. Самое клятое дело — бумаги. Сколько чиновников вокруг них кормится. Хоть в Перми! Хоть в Москве! Хоть и в Петербурге!
Савва Морозов, тароватый хозяин, видел, что Чехов знай одними глазами посмеивается, слушая такие похвальбы в свой адрес. То доктор, а то вот и письмоводитель — возьми их, пермяков!
Столы ломились от рыб метровых, от поросяток цельнозажаренных, от птицы таежной и всякой, а Чехов ел только уху да воду минеральную пил.
Морозов раньше оповестил, чтобы новое здание школы к приезду Чехова готовили и чтобы табличку прибили: «Народная школа имени писателя А. П. Чехова». Но когда на другой день, еще пошатываясь с похмелья, пришли к школе, — кто на ватных двоих, а кто и на четырех спотыкающихся, — крыльца‑то и не оказалось. Школа была, табличка гвоздями пришпандорена к стене, а как залезть на высоченный фундамент, сотворенный из многопудовых валунов? То ли позабыли, то ли не успели. Морозов — знай наших! — полез к высоченно вознесенным дверям по стремянке, кто‑то еще с треском за ним вломился, но Чехов не решился ломать свои длинные ноги. Внизу стоя, слушал приветственную речь управляющего, которому Морозов подсказывал, что говорить. Тот более или менее исправно все озвучил, но тут уж Чехов подпортил, сказав в ответ:
— У вас, Трифон Ильич, костюм не в порядке. Брюки спереди не застегнуты. — Последнее уже шепотом, но ближние‑то услышали.
Савва Морозов даже чертыхнулся, пока управляющий, отвернувшись, искал куда‑то запропавшие пуговицы.
Оживился Чехов только уже поздним вечером, когда ему в беседку внесли лампу и он остался один.
А последующие дни и вовсе рассеяли туман официальных встреч, то бишь купеческих пьянок.
Он сидел на бережке и на все приглашения Морозова — прогуляться или проехаться куда‑нибудь — отвечал с добрым смешком:
— Да что вы, Савва Тимофеевич! Что может быть лучше такой вот рыбалки?
— Без стерлядей‑то?
— Без них, пьяненьких. Право, прекрасное занятие — окунишки. Вроде тихого помешательства, говорю как доктор. Главное, думать ни о чем не надо. Славно!
Савва Морозов подловил его на слове:
— Как вернемся, прошу ко мне на Истру. Путешествие близкое, неутомительное. Конечно, река поменьше, — он широким жестом окинул широченную Каму, — ной на Истре клюет. А не будет клевать — ребятишек в воду запущу: пускай вам на крючок шелесперов насаживают.
— Да ведь, поди, опять губу раздерут?
— Не раздерут, они у меня ученые. Истинные шелесперы!
Савва Морозов щеголял тем, что читывал, читывал студенческого, вечно закрывавшего душу приятеля. Но мог бы и без щегольства: времени мало оставалось, хотя до книжек, особенно дареных, добирался. До Горького, Андреева, Скитальца, ну, и само собой, до Антона Павловича. Тем более, что милая Книппер, полузаброшенная, полунесчастная, полуодинокая жена о выходе всех книг со скрытой грустью говорила:
— Антон Павлович опять счастливо разродился.
— Если бы ребеночком? — как‑то под настроение уже вслух выразил свою давнюю мысль.
Она вздрогнула как под плетью:
— Да, все думаю: если бы у меня был полунемчик, получехончик.
— Так в чем же дело, славная Ольга?
На дальнейшую откровенность она, конечно, не шла.
Но здесь, при взгляде на сидящего с удочкой приятеля, — когда все гости который уже день окрестных баб по кустам валяли, — объяснений не требовалось. Разве что запоздалое покаяние: «Я, конечно, по сравнению с ним никчемный человек. но избави меня бог от его участи!»
Бог избавлял. Савва Морозов убегал от неприкаянно сидящего на берегу приятеля и присоединялся к валявшимся по кустам пермякам. Ловили они не рыбок бескровных — рыбин вполне полнокровных, в отменную длину и толщину.
Урал, он хилых не любил.
Глава 2. Революцьонный племяш
Восковыми изваяниями тянулись к небу оснеженные деревья роскошного Новинского бульвара. Ни души. Все как вымерло. Даже не верилось, что днем тут свистели по- разбойничьи лихачи. Полторы версты до Кремля, а все‑таки окраина. Мещанская, да и рабочая. Мало что невдалеке, на Пресне, была Прохоровская мануфактура — главный конкурент мануфактур Морозовских, так еще и знаменитая мебельная фабрика Павла Александровича Шмита. На воротах ее золотой аркой даже в ночи светилась вывеска: «Поставщик двора Его Императорского Величества». Казалось, какое это отношение имеет к широко раскинувшемуся клану Морозовых?
Ан нет!
Под немецкой фамилией и здесь прижился старообрядческий дух. Одна из четырех ветвей Саввы Васильевича Морозова. Викулычи! Ибо рижский немец взял в жены, и не без дальнего прицела, Веру Викуловну Морозову, а она через своих братьев связана со всем остальным, могучим древом.
Мебельная фабрика была основана в 1817 году — почти в одно время с Никольской мануфактурой, но долго влачила жалкое существование, пока выходцы из Риги — Матвей и его сын Александр — не додумались женить сынка Павла на Веруньке Морозовой. Как уж протестантская семья породнилась с семьей старообрядческой, о том никто в колокола не бил. Шептались по купеческим закоулкам: «Гли-ко, пузатую выдают!» То ли с гусаром, то ли с артистом каким‑то бежать намерилась, да вовремя пузо‑то кнутом вспороли, а после ненужного выкидыша шмитовское семя пошло. Николай, Екатерина, Лиза, Алексей. Может, и дальше бы продолжалось, да неугомонный Шмит надорвался на морозовских капиталах, ну, и к своему протестантскому богу ушел. А его старообрядческая вдова молилась в домашней молельне о своих не доросших до взрослости чадах: «Господи Истый! Доведи сыновей до мужества, дочек несчастных до счастливого замужества.»
Право, шагая в ночи по Новинскому бульвару, именно это и слышал Савва Морозов.
Вера Викуловна приходилась ему двоюродной сестрой, стало быть, старший сын Николаша, наследник всего шмитовского дела, двоюродный племянник?
Нет, родной. По складу души, что ли?
В ночи Савва Тимофеевич чертыхался истинно по-морозовски. Какой наследник, черти его университетские иобери! Оставленный богу на поруки на девятнадцатом году, при малолетних сестрах и совсем уж несмышленыше братике, при впавшей в покаянную мольбу матери, он на естественный факультет поступил, самый никудышный. В прекрасной отцовской усадьбе, в невиданных по Москве оранжереях сеет рожь да пшеничку! Голод, вишь, по России. Если постараться, так выведенная в этих оранжереях ржица будет расти, как крапива многолетняя. Не пахать, не сеять — жни да корми голодных.