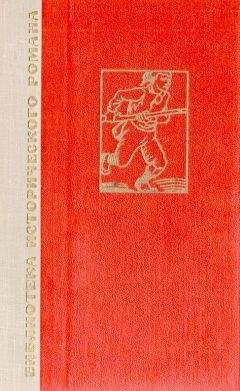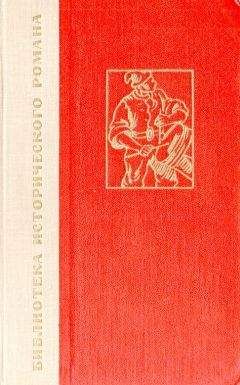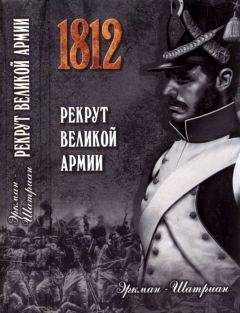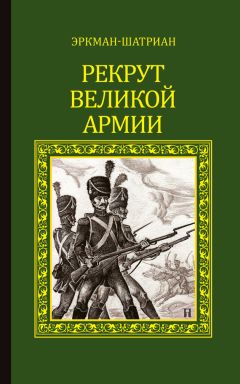Геннадий Прашкевич - Секретный дьяк
Молча прислушивались, как в молочной мгле неслышно влечет байдару течением на край света. Иногда сквозь белую мглу высвечивалось неясное зарево. Может, скирда горела на невидимом острову, а может, какая гора огнем дышала. Еще шумно что-то плюхалось в воде, сопело, возилось, гоня волну.
– Может, кит? – слабо дивился Иван. – Их, наверное, ловить можно?
– Кого? – спрашивал из тумана Похабин.
– Китов.
– Ну, поймаешь? А дальше что?
– В Апонию повезем.
– А в Апонии что?
– В Апонии теплое средиземное море, невиданные деревья. Там непуганые олени берут пищу из рук человека. Там толстый бог Фанасома сидит посреди травы, утешает робких апонцев… – Обессилено добавлял: -Вот куда занесло?… Может, давно плывем по апонским водам?…
– Смирись, барин, – советовал из тумана Похабин. – Раз не убило стрелами, не затянуло в морские водовороты, не заморило голодом до смерти, значит, кому-то мы еще нужны. Вот Тюнька помер, и Ухов помер, и самого господина Чепесюка убило стрелой. Они свое дело сделали, а мы живы, несет куда-то… Маиор парик потерял, а нас все несет и несет… Значит, задумано так… Значит, мы еще нужны Господу…
– Да зачем?
– Как зачем? – пугался Похабин. – Разве можно спрашивать такое?
– Может, случайно живем, Похабин?
– Как это случайно? – еще сильнее пугался Похабин. – Не бывает ничего случайного. Лес валится в бурю, падают дерево на дерево, образуется сплошной бурелом, а разве случалось так, барин, чтобы хоть раз сложилась из таких случайностей хотя бы маленькая, хотя бы самая простенькая, даже самая кривая избушка?
Истово клал крестное знамение:
– Все благое от господа, а от человека одно зло.
Каани – железо.
Онууман – вечер.
Алааль – лето.
Киупи – брат.
Ани – огонь.
Насиаата – завтра.
Ешичум – дождь.
Еин кмукаруа – не сплю.
Произносил медленно вслух:
– Насиаата…
– Ты чего, барин? – пугался не видимый Похабин.
– Так дикующие говорят… – А сам помнил: после…пусть все отдаст… -Ну, жалко Тюньку монстра… Большого ума был дьяк… А я его даже не повесил… – И медленно, чтобы каждый слышал каждое слово, читал из книги «Рассуждений о других вещах»:
– «…Объявитель сего билета дикующий мохнатый куши Татал, а по-русски Черныш, вступил в российское подданство текущего сего 1724 года, в чем во уверение учинил присягу с обязательством с его рода платить, когда спрошен быть имеет, ясак с каждого взрослого человека, луком владеющего, и когда потребуется безоговорочно отдавать лис и морского зверя человеку из казны Его Императорского Величества, за что сего дикующего мохнатого куши Татала, а по-русски Черныша, принимать и почитать за верноподданного».
– Умный был дьяк… Полезный государеву делу… – от всего утомленного сердца жалел Иван. – Пусть постоянно подозревал между согласными твердый знак, прямо так и писал – всегъда… взъгляд… и протъчее… а крайне полезный был государству человек…
Всматривался в отсыревшую слипающуюся бумагу. Видел название, написанное собственной рукой: «Рассуждения о других вещах или Кратчайшее изъявление вещей, виденных и пережитых». А ниже Тюнькой добавленное: «Язык для потерпевших кораблекрушение».
– Умный был дьяк, какие длинные знал слова… Был длинный и слова любил длинные… Жаль, нет монстра…
– Зачем жалеть? – смиренно отвечал не видимый, только слабо угадывающийся в тумане Похабин. – Будь Тюнька жив, давно бы, наверное, умер.
Иван без удивления качал головой:
– Может, и умер бы… Но еще всякое записал бы в книгу… Всякие умные рассуждения бы внес в нее, и многие новые слова из языка дикующих… У апонца Сана и у куши Татала узнавал слова, вносил в книгу… Зачем-то записал длинно – язык… И не простой, а для потерпевших кораблекрушение… Понял, Похабин?… Про нас, наверное, думал… Боялся, что занесет нас еще на какой остров…
– Да хватит уж, сколько можно?…
– Этого мы знать не можем… – качал головой Иван. – А у Тюньки был ум… Он, как дьяк-фантаст, широко прозревал будущее… – Намекал строго: – Учи язык дикующих, Похабин. Вдруг пригодится?
– Да где?
– Откуда ж мне знать?
И невидимый маиор доставал из мглы:
– Учи, учи язык дикующих, Похабин… Не может быть, чтобы не приткнуло байдару к берегу…
3
А луки из лиственишного дерева оклеены берестой.
А названия стрел: пенш – костяная, уаллакал – железная, каухлачь – каменная, ком – костяной томар, тылшкум – деревянный томар, англьпынш – тож костянуха…
Иван медлительно вглядывался в Тюнькины записи.
Все было там вперемешку – и слова апонские, и слова мохнатых. И просто разные слова были, иногда странные. Например, чуппу. Слово не длинное, а означает сразу и Луну и Солнце. Как так?… Или слово усиху – слуга, а рядом кусиуге – служанка… Откуда у дикующих слуги или служанки, серветьерки, как иначе говорят?… Хотел спросить маиора, потом раздумал. Обидится.
Туман…
Грести уже не могли.
Валялись на дне байдары, сохраняя последние силы.
Окончательно потеряли счет дням. Сколько носит по морю? Может, уже месяц? Может, год? Может, давно занесло байдару туда, где не водится ничего живого? Мысленно вписывал в Тюнькину книгу:
«…Бытность на море всегда в смертельной опасности. Ужасные нужды, труд великий, а еще большой страх. Страх от того, что проходит плаванье в незнаемом море, никаких вокруг берегов, даже неизвестных – одни туманы. Пить нечего. Немного росы с утра, и сок пойманной в море рыбы. Было ли так, что когда-то кушали горячий чай, при этом помногу чашек?»
В тумане пронзительно плакала чайка.
Может, это Казукч, Плачущая, одна из брошенных переменных жен, призывала неукротимого маиора вернуться на свой остров?…
Имена женския:
Каналам – враговка,
Кенилля – мышеловка, ведьма,
Кымхач – не разрожается,
Кайруч – колотье,
Якын – так просто,
Ямга – мор,
Кепион – так просто…
Туман…
Все, что имели (небольшой походный запас муки и вяленого мяса) давно съели. Съели и найденное в байдаре тесто на пресной воде, которое мохнатые куши берут с собой в плаванье.
Иногда чудились острова в тумане. Иногда тенью что-то проходило сквозь мглу. Может, остров… А, может, дьявол дразнится… Иногда вдруг вспоминали: а монах? Где монах? Где поп поганый? Где брат Игнатий, что звался в миру Иваном? Может, видит сейчас каменные городки Апонии? Может, выбирает для приступа совсем какой-нибудь счастливый островок, что позеленей да потеплее – для долгой счастливой жизни?… Твердо решили, что если кто-нибудь выживет, неважно, маиор ли, Иван, или даже Похабин, то выживший непременно отыщет брата Игнатия, сорвет с мерзкого монаха рясу, и повесит попа на первом встречном дереве, никому ничего не объясняя.
А как иначе? Кровь на том монахе! Большая кровь.
Когда Иван совсем ослабел, опять пришел к нему в полузабытье казачий голова камчатский прикащик Атласов. Хмурясь, присел на борт, ни разу не качнув байдару, потом опустил ногу в сапоге за борт и совсем нахмурился. Знаю, мол, о чем думаешь, Иван. Только не бойся, не случится с тобой беды. Ты не утонешь, и с голоду не умрешь, и не съедят тебя дикующие. И на меня так не смотри. Это только кажется, что я пьян или нажевался гриба. Это я от ненависти такой. Верь мне. А гриб жевал вор Козырь, крикнутый бунтовщиками есаулом. Вот Козырю никогда нельзя было верить. Он придет, сядет у огня и похвастается: вот де ходил на собаках зимним путем аж до дальних коряков, и даже дальше. А сам никуда не ходил, сам весь месяц валялся в теплой полуземлянке, жевал мухомор. А если и ходил далеко, то только в болезненных видениях…
Придя и сев на борт не дрогнувшей от того байдары, камчатский прикащик хмуро покачал головой: «Что? Упустили вора?»
Сил не было, но Иван ответил.
«Молчи! – рассердился казачий голова. – Знаю вас. Много роптали, суетой порабощали сердца. Небрежничали в молитвах, об истинной вере легко судили. Не посещали храмы, не исполняли тайных обещаний, данных Господу. Не раз впадали в нечеловеческую ярость, отчего служили причиной чужого горя. Искали господства, разрушали себя пьянством, ложью, невежеством. Не употребляли во благо богом данные таланты…»
– А сам? – медлительно спросил Иван, чтобы отвязаться.
Атласов замолчал, растаял в тумане. И чугунного господина Чепесюка нигде нет. Иван твердо верил, что находись господин Чепесюк в байдаре, давно ткнулись бы носом в какую землицу. Смутно дивился, не понимал, обдумывая последние слова таинственного человека господина Чепесюка. Вот молчал всю жизнь, а в последнюю минуту выговорился.