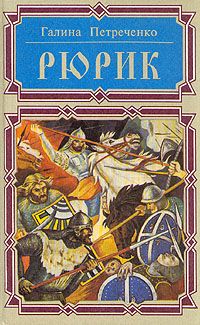Хилари Мантел - Внесите тела
Он качает головой:
– Не умрете.
Когда-то он и сам верил, что умрет от горя после смерти жены, дочерей, сестер, отца, кардинала. Но пульс продолжает упрямо стучать. Ты думаешь, что сейчас дыхание прервется, однако грудная клетка решает иначе: она поднимается и опускается, заставляя тебя дышать. Ты живешь и благоденствуешь наперекор себе, и тогда Господь вынимает твое трепещущее сердце из груди и взамен дает тебе сердце каменное.
Норрис дотрагивается до ребер.
– Здесь болит с прошлой ночи. Я задохнулся, проснулся от боли и с тех пор не ложился.
– Кардинал говорил то же самое. Говорил, что боль, словно точильный камень в груди. Точильный камень и сталь, острый нож в кишках. Боль отпустила только в самом конце.
Он встает, собирает бумаги, кланяется, выходит.
Генри Норрис; левая рука.
Уильям Брертон. Джентльмен из Чешира. Служил герцогу Ричмонду в Уэльсе и служил дурно. Надменный, бессердечный представитель непокорного рода.
– Обратимся к временам покойного кардинала, – говорит он. – Помните старую историю про вашего родича, который убил партнера во время игры в шары?
– Порой в игре теряют голову, – говорит Брертон. – Сами знаете. Ваш ход, я весь внимание.
– Тогда кардинал решил, что вы должны заплатить, и вашу семью оштрафовали. Я и спрашиваю себя, изменилось ли что-нибудь с тех пор? Или вы до сих пор считаете, что вам закон не писан, раз уж вы служили герцогу Ричмонду и вам покровительствует Норфолк?
– Мне покровительствует король.
Он поднимает бровь:
– Неужели? Тогда вам следует немедля воззвать к вашему покровителю. Вам не кажется, что вас держат в черном теле? К несчастью для вас, короля здесь нет, приходится иметь дело со мной и моей долгой памятью. Однако обратимся к фактам. Помните того джентльмена из Флинтшира, Джона ап Айтона? Вряд ли вы забыли.
– Так вот почему я здесь, – говорит Брертон.
– Не совсем, но оставим на время вашу прелюбодейственную связь с королевой и поговорим об Айтоне. Думаю, на память вы не жалуетесь. В игре вспыхнула ссора, соперники обменялись ударами, один из ваших родичей погиб, а некто Айтон предстал перед лондонским судом и был оправдан. Вы поклялись отомстить и похитили того человека, грубо поправ закон. Ваши слуги повесили его, и все это – не смей прерывать меня, молокосос! – с вашего полного одобрения. Вы решили, что значит один человек, кому он нужен? Но вы ошиблись. Вы решили, прошел год, и все забыли. Но я помню. Вы решили, закон вам не писан, и вы можете вести себя так, как привыкли в своих владениях на границе, где королевское правосудие попирается каждый Божий день! Ваш дом – воровской притон.
– Вы называете меня похитителем людей?
– Я говорю, что вы якшаетесь с похитителями, но отныне вашим бесчинствам пришел конец.
– А вы теперь суд, присяжные и палач в одном лице?
– У бедного Айтона не было и того.
– Ваша правда, – признает Брертон.
Какое падение. Всего несколько дней назад Брертон жаловался ему, что земли чеширских аббатств уплывают из его рук. Наверняка вспоминает, с какой холодной надменностью учил господина секретаря: конклав судейских из Грейс-инн нам не указ, в моих владениях закон устанавливает моя семья, закон – это то, что считаем законом мы.
Теперь он, господин секретарь, спрашивает:
– Как вы считаете, Уэстон имел сношения с королевой?
– Возможно. – Кажется, Брертону уже все равно. – Я мало его знаю. Он молод, глуп и хорош собой, а женщинам только того и надо. А она, хоть и королева, всего лишь женщина, падкая на лесть.
– По-вашему, женщины глупее мужчин?
– Как правило. И слабее. В любовных делах.
– Я запишу ваши слова.
– А что Уайетт, Кромвель? Почему до сих пор о нем ни слова?
– Вопросы здесь задаю я, – говорит он.
Уильям Брертон; левая нога.
Джорджу Болейну далеко за тридцать, но красота, которой тот славился с юности, осталась при нем, взор светел, кровь играет. Нелегко представить, что этот приятный господин так охоч до запретных удовольствий, как уверяет его жена. Возможно, вся вина Джорджа в том, что тот порой слишком горд и чванлив, слишком оторван от грешной земли? С такой внешностью и талантами Джордж мог парить над королевским двором с его топорными интригами, изысканный и утонченный, внутри собственной сферы: заказывал бы переводы античных поэтов и выпускал изящные тома; гарцевал на белоснежных кобылах перед дамами. К несчастью, Джордж резок и раздражителен, хвастлив и любит плести интриги. Мы застаем брата королевы в светлой круглой комнате Мартиновой башни, на ногах, в поисках, на ком сорвать злость, и спрашиваем себя: понимает ли Джордж, почему здесь оказался? Или волнующее открытие для него еще впереди?
– Боюсь, вас почти не в чем упрекнуть, – говорит он, Томас Кромвель, занимая место за столом. – Сядьте, хватит мельтешить. Мне рассказывали, узники умудряются протоптать в камне тропинку, но я не верю. Им потребовалось бы триста лет.
Болейн говорит:
– Вы обвиняете меня в заговоре, в сокрытии прелюбодеяния, совершенного сестрой, но это обвинение ничтожно, потому что никакого прелюбодеяния не было!
– Нет, милорд, не в сокрытии.
– В чем тогда?
– Вас обвиняют в другом. Сэр Фрэнсис Брайан, который славится бурным воображением…
– Брайан! – Болейн испуган, путается в словах. – Но вы же знаете, мы с ним враги! Что, что он сказал, как, как можно ему верить?
– Сэр Фрэнсис мне все разъяснил. Мужчина, почти не знавший сестру, снова встречает ее через много лет. Она такая же, как он, и в то же время другая. Она похожа на него, и это еще больше возбуждает. Однажды родственные объятия затягиваются. Дальше – больше. Возможно, оба не понимают, что происходит, пока не заходят слишком далеко. Насколько далеко, не ведаю, ибо не обладаю воображением сэра Фрэнсиса. – Он замолкает. – Это началось до свадьбы? Или после?
Болейн начинает дрожать.
– Я отказываюсь отвечать.
– Милорд, мне не впервой иметь дело с теми, кто отказывается отвечать.
– Вы угрожаете мне дыбой?
– Разве я пытал Томаса Мора? Мы просто посидели вдвоем в Тауэре, в комнате, похожей на эту. Я слушал бормотание внутри его молчания. Порой молчание бывает весьма красноречивым. Так будет и на сей раз.
Джордж говорит:
– Генрих убил советников отца, убил герцога Бекингема. Погубил кардинала, приблизив его кончину. Отрубил голову величайшему европейскому мыслителю. А теперь задумал уничтожить жену, ее семью и Норриса, который был его лучшим другом. Что заставляет вас думать, что вы от них отличаетесь и вас минует их судьба?
– Не вам и вашему семейству поминать имя кардинала. А уж тем более Томаса Мора. Ваша сестра жаждала отомстить, не отставала от меня: «Как, Томас Мор все еще жив?»
– Кто меня оклеветал? Не Фрэнсис Брайан. Моя жена? Мне следовало догадаться.
– Вы высказали предположение, но я не обязан с ним соглашаться. Должно быть, вы сильно виноваты перед женой, если допускаете, что она способна измыслить подобное.
– И вы ей поверили? – вопрошает Болейн. – Поверили слову одной женщины?
– Множество женщин пали жертвами вашей неотразимости. Ради их спокойствия я постараюсь избавить этих дам от показаний в суде. Вы привыкли менять женщин как перчатки, милорд, теперь не жалуйтесь, если они отплатили вам той же монетой.
– Выходит, меня будут судить за мои любовные похождения? Это все зависть, вы все мне завидовали, моему успеху у женщин.
– Успеху? Вы по-прежнему называете это успехом?
– Не знал, что это преступление. Предаваться любви по взаимному согласию.
– Не советую вам приводить этот аргумент в свою защиту. Если вы предавались любви с сестрой… судьи сочтут ваши слова… дерзостью. Проявлением неуважения. Вас спасет – речь идет о спасении вашей жизни – только подробное свидетельство об отношениях вашей сестры с другими мужчинами. В ваших интересах отвлечь судей от ваших собственных прегрешений.
– Вы считаете себя христианином и просите меня дать показания, которые погубят мою сестру?
Он разводит руками:
– Я ни о чем не прошу. Я лишь предлагаю возможное решение. Мне неведомо, готов ли король проявить милосердие. Генрих может выслать вас за границу, может смягчить способ казни. Или не смягчить. Изменников казнят публично, они умирают в унижении и страшных муках. Я вижу, вы меня понимаете, видели собственными глазами.
Болейн съеживается, обхватывает себя руками, словно защищая утробу от мясницкого ножа, падает на стул; давно бы так, ведь я говорил, мне не обязательно до тебя дотрагиваться, чтобы усадить.
– Вы исповедуете истинную веру, милорд, значит, спасены. Однако ваши поступки едва ли заслуживают спасения.
– Не лезьте мне в душу, – говорит Джордж. – Такие вопросы я обсуждаю со священником.
– Вы настолько уверовали в свое прощение, что надеялись жить в грехе еще много лет, и хотя Господь все видит, Он должен был терпеть, пока вы состаритесь и ответите на Его призыв. Или я не прав?