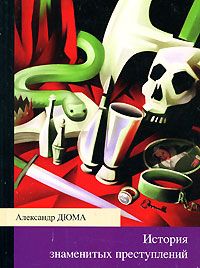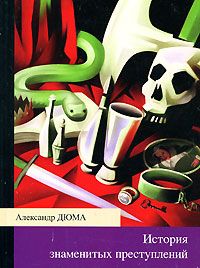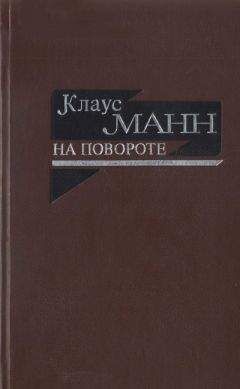Клаус Манн - Петр Ильич Чайковский. Патетическая симфония
— Да, моя радость, — ответил Петр Ильич. — По-прежнему кое-чего не хватает.
Когда Модест и Владимир к восьми часам вечера вернулись домой, их встретил растерянный Назар.
— Барину еще хуже, — доложил он, и его неповоротливый язык от страха пришел в движение. — Они совсем бледные, и мне кажется, у них жар. Их несколько раз стошнило, а без поддержки им до того самого места не дойти… А им часто нужно было в то самое место…
Владимир схватил руку Модеста и крепко сжал ее. Не говоря ни слова, они вместе побежали вдоль по коридору. Владимир распахнул дверь в гостиную — диван был пуст.
— Я уложил барина в постель, — крикнул Назар, оставшийся стоять у входной двери.
Владимир и Модест вместе побежали обратно по коридору. У двери в спальню, где теперь находился Петр Ильич, они, запыхавшись, остановились. Они вошли в спальню и ужаснулись.
Лицо больного страшным образом изменилось. За время, пока брат с племянником ездили за покупками для своего холостяцкого хозяйства, лицо это стало совершенно изможденным. Глаза, казалось, совсем глубоко провалились в глазницы; полуоткрытые распухшие губы были почти того же серовато-белого цвета, что и свалявшаяся борода. На этом лице была печать смерти. Высшая инстанция заклеймила, исказила и совершенно обезобразила его, и это было ее ответом на смелый и отчаянный вызов, брошенный ей сыном Божьим Петром Ильичом Чайковским.
Через полчаса появился домашний врач доктор Бертенсон. Он еще не успел осмотреть пациента, только мельком взглянул на него, а испуганные родственники уже прочли печальный диагноз в выражении его лица. Доктор сообщил, что в этом серьезном случае не хочет принимать никаких решений один, и попросил разрешения пригласить своего уважаемого брата, профессора Льва Бертенсона, для консультации. Уже через четверть часа подъехала коляска профессора. Он не был знаком с семьей Чайковских, и появление его носило торжественно-мрачный и многозначительный характер. Ученые мужи, домашний врач и профессор, несколько секунд шепотом переговаривались. Они были очень друг на друга похожи: оба лысые, в сверкающих очках с золотой оправой, с квадратными бородами и внушительного размера ушами, из которых пучками торчали черные волосы.
Врачи застали пациента в постели совершенно замаранным. Организм его постоянно извергал выделения, а Назар боялся каждый раз вытаскивать страдальца из постели.
Осмотр больного занял не слишком много времени. Владимир и Модест ждали за дверью. Наконец ученые братья с важным видом появились из комнаты больного.
— Все очень плохо? — чуть слышно спросил юный Боб, красивые глаза которого были полны слез.
Братья Бертенсон одновременно кивнули.
Тут Модест решился спросить:
— Это холера?
Чернобородые братья снова кивнули.
Это было около девяти часов вечера 21 октября 1893 года.
Крепкий организм больного еще более трех суток сопротивлялся власти тьмы, к появлению которой Петр Ильич так тщательно готовился, приход которой он, по сути, сам и ускорил. Теперь, когда она действительно заключила его в свои объятия и терзала, и уже не хотела отпускать, она не потрудилась принять тот нежный и соблазнительный облик, в котором являлась ему раньше, ночь за ночью, в те чудные пятнадцать минут перед сном, паря в образе ангела с чертами матушки над его постелью. Теперь ей ни к чему была маска обольщения, теперь она явилась ему во всем своем коварстве, уродстве и зверстве. Ни одно из мучений, выпавших на долю любимой матушки, не миновало и сына, наконец поддавшегося ее зову и повторяющего ее трагическую судьбу, ощущающего на себе ее боли, кричащего ее криком, плачущего ее слезами.
Сколько боли и жалости в нашем благоговейном и сострадательном взоре, обращенном на этого трогательного, на этого стойкого сына Божьего, который наконец решил, что с него хватит, — на нашего друга и героя Петра Ильича Чайковского. Он предстает нашему взору измученный болью, весь в собственной рвоте, корчащийся в судорогах. На лице его, уже помеченном и обезображенном строгим Всевышним, появляются черные пятна; руки, и ноги его начинают чернеть. Назар вместе с сиделкой надрываются, массируя их, а бедный Петр Ильич с жалобно вытаращенными синими глазами на изможденном лице молча все это сносит. Только когда Владимир пытается приблизиться к нему во время таких процедур, он начинает протестовать.
— Нет, нет, — кричит больной. — Я не хочу, чтобы ты ко мне прикасался! Я тебе это запрещаю! Ты можешь заразиться! И пахну я дурно…
Юный Боб отступает от постели больного, и по осунувшемуся за последние дни лицу его текут слезы.
— Уйди из комнаты! — кричит мученик со своей постели. — На меня же противно смотреть! Я не хочу, чтобы ты видел меня в таком состоянии. Уходи!
И рыдающий Боб вынужден покинуть комнату.
Петр Ильич, оставшись с сиделкой и Назаром, измученный судорогами, спрашивает с холодящим душу любопытством:
— Это у больных холерой всегда под конец руки и ноги синеют?
Слуга с сиделкой не знают, что на это ответить.
— Но у вас же совсем не холера, — пытается возразить Назар.
— А почему же вы тут все в этих странных белых халатах? И почему здесь так пахнет дезинфицирующими средствами? Это потому, что у меня такое сильное расстройство желудка? Да? — Он при этом хихикает так, что прислуге становится не по себе. — Подайте мне зеркало! — требует Чайковский, которому после особенно сильного приступа выпало несколько минут покоя и облегчения. — У меня на лице наверняка такие же темные пятна, как были у матушки. — И, когда ему неохотно и нерешительно подают зеркало, он с интересом рассматривает иссиня-черные пятна у себя на лбу и на щеках.
За трое суток, в течение которых продолжается агония, неоднократно меняется состояние больного. Обманчивые, короткие моменты улучшения сменяются тяжелыми кризисами, внезапными сердечными приступами, сопровождаемыми состоянием страха, когда больной начинает метаться и кричать: «Это конец! Прощай, Модя! Благослови тебя Господь, Боб!» Но это еще не конец. Появляется доктор Бертенсон и впрыскивает ему мускус.
Наш полный благоговения и жалости взор становится невольным свидетелем того, как вокруг замаранной постели, на которой мечется в предсмертных муках наш герой и друг, собирается множество людей в белых халатах. Они переговариваются шепотом, на цыпочках передвигаются по комнате — словом, исполняют ту самую нелепую пантомиму, которую принято исполнять вблизи умирающего. Доктора сменяют друг друга, собираются по трое или по четверо, проводят долгие консультации в гостиной, где Назар подает им кофе и коньяк, и деловито орудуют клизмами и шприцами. Братья Бертенсон уже на второй день болезни, когда на лице Петра Ильича стали появляться темные пятна, призвали на помощь доктора Мамонова, которого на ночь сменяет немец, доктор Сандерс. К двум черным бородам присоединилась еще одна седая и одна очень ухоженная белокурая.
Петр Ильич, вокруг которого происходили все эти призрачные таинства белых халатов и разноцветных бород, часами впадал в состояние крайнего замешательства, полного помутнения рассудка, когда он никого не узнавал, метался и бредил. В таком состоянии он называл сиделку Дезире или Антониной, и, когда она приближалась к нему с клизмой, он кричал: «О toi, que j’eusse aimé…», чем приводил ее в ужас, или: «Зачем же я женился на тебе, о несчастная? Какая глупость! Какой позор! Тебе нужно было оставаться с этим баритоном, как же его?..» Клизма в руках у бедной сиделки начинала дрожать.
У Назара он в горячечном бреду вдруг потребовал вернуть его любимые часы.
— Они у тебя! — упрямо твердил он. — Я же знаю, ты украл мой талисман, мою самую любимую вещь! Тогда, в Париже, ты вытащил их из моего кармана в этой проклятой забегаловке на бульваре Клиши. Тебя Надежда подослала, я знаю, я это точно знаю… Ох, зря ты это сделал! Надежда и Апухтин против меня объединились, они были в ужасном сговоре против меня! Отдай мне часы! Мне нужно посмотреть, сколько времени! Время уходит, я опоздаю на поезд, я не успею, а меня там ждут, я должен дирижировать, Атланта отказался, а мне дадут почетный докторский титул и будут меня качать! Отдай часы! Все зависит от того, заполучу ли я обратно часы! — Бедный Назар, испуганный и беспомощный, подал бредящему уродливый будильник с ночного столика.
— Вот ваша самая красивая вещь, Петр Ильич! — сказал помудревший от жалости и отчаяния деревенский парень.
Петр Ильич прижал к себе будильник.
— Она вернулась ко мне! — Крупные слезы катились по его щекам. — Ах, Надежда, Надежда, сердечная моя подруга, я знал, что ты меня простишь! Какую жестокую игру ты так долго со мной вела! Как же ты нас обоих терзала, та femme![22] Теперь настал час примирения! Мой талисман снова со мной! Мы снова все вместе — талисман, ты и я. Вот я умру, и тебе останется жить совсем недолго, любимая моя Надежда!