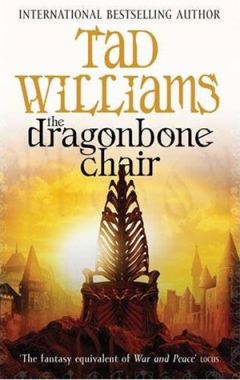Юрий Андреев - Багряная летопись
— Как? — искренне удивилась Наташа. — Вы это серьезно? Неужели ничего нельзя противопоставить? Вы ли это говорите? А удар от Белебея?
— Хоть откуда. Не в этом дело. Главное, что все больше наших солдат переходит на сторону красных. Хуже того — мне известны случаи расправы с офицерами, которые мешали им перейти в плен. Ах, Наташа, у меня такой нюх — я уже видел все это однажды. В тысяча девятьсот семнадцатом… Это начало развала.
— Василий Петрович! У вас дурное настроение, вы просто сгущаете краски.
— Да, сгущаю… Ты понимаешь, я его допрашиваю, он уже неживой, едва хрипит, а глаза — глаза меня ненавидят, ненавидят! А всех ведь не перевешаешь. — Он грязно выругался и опомнился. — Что я? Что со мной?! Прости меня, счастье мое, солнце мое! — Он начал целовать ей руки.
— Возьмите себя наконец в руки! Вы распускаетесь ежедневно! — Но голос Наташи не был злым, все существо ее ликовало: «Они чуют, чуют гибель!»
— Прости меня. Да. Так вот: я хотел сказать тебе, что недолго нам пользоваться этим райским уголком. И может быть… и может быть… — Он быстро посмотрел на нее: говорить ли о своем твердом решении пробираться с нею в Англию? Документы уже есть… — Дорогая, — в голосе его послышались одновременно и требовательность, и неуверенность, — я хотел бы, скажем, завтра-послезавтра, на днях, перед лицом всевышнего обменяться с тобой этими кольцами и дать клятву на вечную верность!
Наташа с интересом глянула на толстые, тяжелые перстни, которые, тускло краснея, лежали у него на ладони, и вдруг сморщилась от неодолимой, как приступ тошноты, брезгливости.
— Василии Петрович, — она встала, — а кровь-то вы с этих колец чем отмывали?
— Какую кровь? — бледнея, спросил он.
— А ту самую, что на руках ваших еще не обсохла! — Два пылающих взора скрестились, но секунда — и взгляд Безбородько погас, стал насмешливым.
Полковник поднялся:
— В чистоплюйство изволим играть? В мамину дочку? Поиграй, деточка, поиграй. В госпиталях нам встречались такие-то сестры: хирург режет, а они в обморок — шлеп: кровь-де-с!.. И запомни раз и навсегда: меня ты разозлить не сможешь. Я — твоя судьба и никуда тебе от меня не деться! Не хочешь завтра под венец — пойдешь через месяц, через год. Или в могилу, — жестко добавил он. — Никому другому я тебя не уступлю. Гуд найт, май леди! Приятных, чистеньких снов. — Он поклонился и вышел.
5—13 мая 1919 года
Река Сок — река Ик у Бугульмы — Бугульма
Петр Исаев подтащил хрупкий столик с фигурными ножками под самое оконце — поближе к серенькому свету начинающегося дня, взгромоздил на столик клокочущий самовар красной меди и шатнул рукой сооружение — устойчиво ли. В избу, умывшись у колодца, вошел Чапаев — свежий, в расстегнутой гимнастерке. Пока он причесывался и подправлял усы у тусклого зеркальца, Петр резал хлеб, сало, колол на ладони сахар резкими ударами тяжелого ножа.
— Садись, Василь Иванович!
Прикрыв зевок ладошкой, Чапаев уселся за столик. Его внимание привлекли гнутые ножки с резьбой; он ощупал их, наклонился, даже заглянул под донце — каким способом закреплены.
— Столиком любопытствуете? — Дородная хозяйка с открытым моложавым лицом на минуту оторвалась от русской печи, где пеклась на сковороде большая лепешка. — Старинная вещь! Как мы делили всем миром имение, так нам он и достался.
— Столик?
— Ага. Ну там корова еще, сани…
Чапаев ухмыльнулся в усы:
— А барин-то что вам сказал?
— А это он еще нам скажет, если вы, дорогие гости, пятки салом от нас намажете! Вот уж тогда он все доподлинно нам выложит! И про корову объяснит, и про сани, и про столичек с ножками фертом.
— Это верно, объяснит. Значит, не след смазывать нам пятки-то?
— Ой, милые, не надо! Ешьте, подкрепляйтесь, только нас Талчаку не оставляйте.
Чапаев снова ухмыльнулся, по-плотницки постучал ногтем по гнутому дереву и нацедил себе крутого кипятку. Ожегшись из стакана, он налил чай в блюдце и, ловко придерживая его тремя пальцами, принялся пить. Исаев, пыхтя от жары, пил из огромной эмалированной кружки.
Перевернув лепешку, хозяйка убедилась в ее готовности и вытащила ухватом сковороду из печи.
— Ешьте, люди добрые, — певуче произнесла она, — я вам еще и сметанки поставлю.
Разломив лепешку, Чапаев без слов протянул половину Петру, вторую обмакнул в миску со сметаной и с аппетитом принялся за еду.
— А сметанка от той самой коровы? — спросил Петр, зарываясь в пухлую румяную лепешку чуть не по уши.
— От нее, от нее, голубушки.
— Ммм, хороша! Придется, Василь Иванович, охранить хозяйку-то, а?
— Ну спасибо, хозяюшка! Угодила нам! — Чапаев аккуратно вычистил остатками лепешки миску. — Прямо тает во рту твое угощение. Попомни: сам Чапаев твою снедь похвалил!
Хозяйка раскраснелась от удовольствия, но ответить ничего не успела: отворилась дверь, и в горницу, пригибаясь под притолокой, зашла группа командиров. Приглушенным разноголосием они поприветствовали начдива, он, остро глянув на них, пригласил всех к чаю. Последовал вежливый отказ: уже почайпили. Чапаев сделал жест, как бы не соглашаясь, и Исаев принялся собирать для пришедших посуду.
— Так что с приказом Тухачевского делать будем? — сразу ухватил быка за рога немногословный, коренастый Луговенко, начштаба дивизии.
Исаев тем временем поставил перед каждым по стакану с чаем, все принялись пить его, громко откусывая сахар, ожидая решения начдива. Чапаев не торопился отвечать. Он сидел откинувшись к стене, покручивая кончик уса. Слышалось только хрупанье сахара да сопение чаевников.
Чапаев думал. По замыслу Фрунзе, как Чапаев понимал его — а он весь жил идеей этого контрудара, — наступление следовало разворачивать северо-восточнее Бугульмы. Вчерашний же приказ командарма Пятой требовал повернуть дивизию на северо-запад. Тухачевский — горячий и хитрый командир; дерзко решил он окружить корпус генерала Войцеховского, зайти ему чуть ли не в тыл. Доброе дело! Знатное дело. Да вот будет ли Войцеховский тем временем стоять на месте? И он ведь не дурак! А если генерал переместится да и сам ударит во фланг? А штыков, сабель и артиллерии у него раза в два поболее, чем в 25-й дивизии…
— Карту!
Мигом очищен от посуды столик, расстелена буро-зеленая бывалая карта, все головы склонились над ней…
Началась трудная, кропотливая работа: один за другим входили по вызову в избу начальники конных разведывательных отрядов, срочно посланных в район Бугульмы тотчас после получения приказа командарма Пятой. Придирчиво выпытывая у каждого самые малейшие подробности, Чапаев наносил на общую карту все, что ему докладывали.
— Да, осторожен генерал, — часа через два задумчиво протянул Чапаев, разгибая спину. — Умен! Или пронюхал что-то, или сам сообразил: все данные, что он стал перемещаться вот сюда — в сторону Уфы. И значит… Ты понимаешь, комиссар, что это значит? — обратился он к Фурманову.
Тот встал, покуривая трубку, заходил по комнате. Перемещение Войцеховского значило, что выполнение нового приказа — дерзкого и смелого по замыслу — тем не менее ставило дивизию Чапаева под фланговый удар заведомо более сильного противника, потому что генерал Войцеховский оказался осторожней и дальновидней, чем предполагал Тухачевский. А невыполнение Чапаевым важного приказа в условиях острых непрерывных боев, да еще при старой репутации партизана и анархиста, было чревато незамедлительным отстранением Чапаева от командования, и Фурманов знал, что сам начдив это отчетливо осознает.
— Что ж ты решаешь, Василий Иванович? — с интересом спросил он. Чапаев встал и тоже заходил по комнате — быстро и гибко.
— Как думаешь, — неожиданно спокойно спросил он. — Тухачевский — мужик умный?
Умный ли? Для Фурманова этот вопрос никакой сложности не составлял: то, что он знал о молодом командарме, безусловно говорило за это. Но…
— В этом ли соль, Василий Иванович? — попыхивая дымком, спросил он. — И умные бывают амбициозные. А в этом смысле я о нем ничего не знаю.
Ни слова не говоря, Чапаев снова склонился над картой. Десятки мелочей, добытых разведкой, говорили за то, что Войцеховский уходит из-под задуманного удара и развертывает свой корпус для броска во фланг 25-й дивизии.
— С дворянским гонором, значит? — переспросил Чапаев. — А тебе ясно, комиссар, что ждет нас, если мы выполним вчерашний приказ? — И он провел резкую черную стрелу, перечеркивая красный контур своих бригад. — Я думаю, каждому должно быть это ясно-понятно, если он не последняя контра. А если кому и неясно, так я из-за этого своих бойцов понапрасну тратить на погибель не буду!.. И белую шкуру Войцеховского трепать не перестану! Вот так! — Он ходил гибкой, кошачьей походкой из угла в угол по комнате. — И не верю я, что командарм-пять из-за гонора-амбиции будет настаивать на приказе, не хочу верить! — Чапаев ударил кулаком по хрустнувшему столику. — Михаил Васильевич о нем упоминал по-доброму, а уж он людей понимает. Ну, а если…