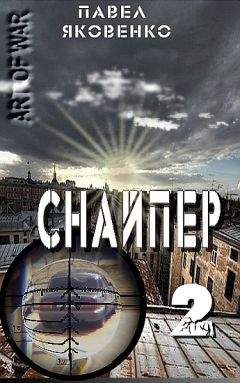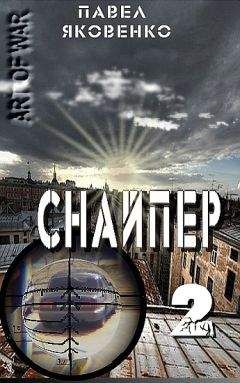Андрей Иванов - Харбинские мотыльки
Она принялась щебетать:
— А Борис Вильде, представляете, у Жида живет!
— Что? — вздрогнул Ребров. — Какой Вильде, простите?
— Ну, Борис Вильде — писатель наш. — Варенька взмахнула рукой и изобразила в лице нечто: поморгала — видимо, так она изображала Вильде или нечто писательское. — Раз, и у Жида!
— У какого жида? — смутился Ребров.
— Как у какого? Ну, Андре Жид, писатель! Знаете?
— Ах! Ну, ну… А что, он не мог получше устроиться?
— Куда уж лучше-то?! Самый популярный сегодня в Европе писатель, если не в мире…
— Да?
— А вы и не знали?
— Признаться, первый раз слышу.
— Неужели? Фу, какой вы! — Она толкнула его легонько, и вдруг понизив голос быстро проговорила: — Кстати, он собирается жениться, и это на вторую неделю в Париже!
— Кто? Жид?
— Да не Жид — Борис Вильде!!! Да что с вами?
— Не знаю. А что?
— Вы как не в себе. Он приехал из Германии и сразу со всеми познакомился, представляете, гол как сокол, без второй пары брюк и костюма, а его принимают в салонах и всюду вхож, все от него в восторге! Он почти ни слова по-французски, а через две недели пишет: теперь я проживаю у Андре Жида… мои рассказы на французский переводят… и еще — я женюсь… На принцессе! Представляете!
— Да, да…
Что за глупости! Жид, какое мне дело до какого-то писателя во Франции? До какого-то Вильде! До принцесс! Чихать я хотел на принцесс! Проглотил все это. Извинился. Варя предложила зайти в кафе; он извинился. Дела… Снял шляпу, отступил на шаг. Дела… Вечером поезд. Шаг… Нет времени. Простите. Пошел опять к Каблуковым. Никого! Где черти носят? Но пачка пропала. Бродить у реки не стал — ветер с дождем. Пошел в кафе: ужасная трата денег — и совершенно бессмысленная. Один смысл в этой поездке есть: избавиться одним махом от всех. Не бросаться же в реку из-за них! И засмеялся. Он сидел в кафе, курил, пил кофе с коньяком, смотрел на улицу и смеялся. В самом деле, не бросаться же из-за всех этих дураков в реку! По лицу его бежали слезы. Из-за этих… Никак было не остановить смех. Неужели истерика? Да, точно — настоящая истерика! Руки тряслись. Он сжал их. Еще коньяку, еще… Неожиданно поймал на себе взгляд — на улице стояла Варенька, смотрела на него, вот только отказавшегося с ней зайти в кафе посидеть, стояла и смотрела, сделала губки, сказать, наверное, хотела: вот вы какие! Он отвернулся. Встал, подошел и заказал себе еще коньяку и кофе. Мне все равно, твердил он про себя. Сел и сижу. Как мне это все опротивело! — вдруг всплеснуло в голове. — Вот если б вы, Варенька, знали, вот если б все знали: как мне все опротивело! Вы бы там не встали так и не смотрели на человека сквозь стекло… Если б вы все что-нибудь… хоть что-нибудь знали о человеке, на которого так смотрите… Если б вы, Варенька, знали, со сколькими вещами и людьми приходится сталкиваться, чтобы погладить одежду! Чтобы выглядеть что называется «прилично»… если б… думать обо всех этих мелочах вместо главного… и еще смеете ждать от человека чего-то… если б вы знали, что человеку приходится с собой делать, на что идти… А вы приходите без предупреждения, рассказываете байки о том, как кто-то где-то женился, застрелился, подвесил вам крысу, заставляете с чужими женами танцевать, целоваться, бегать с пачками ненавистных газет, смеетесь, допрашиваете, вынуждаете слушать ваши глупости… принцессы, кокаин, проститутки… шубку распахнула, а под шубкой ничего… Вот под шубкой той как раз — мое!
Уехать!
Уехать?..
Нет! Как раз поэтому и не уеду! Буду дальше в Ревеле у вас под носом сидеть и на всех вас плевать, мучиться, слушать ваши глупости и сидеть тут.
Осторожно глянул на улицу. Варенька исчезла.
Может, померещилось…
Выкурил две сигареты, допил кофе. Вышел. Вечер выдался жиденький. В ушах стучало, а может, ветер выл. Пьяный. Борису показалось, что человек, что курил на противоположной стороне улицы, чем-то ему знаком. Было в нем что-то… неприятное… Человек отклеился от столба, пошел за ним следом по узкой улочке, неся на плечах желтый свет фонарный, противно шаркая, как шпана. Борис подумал: хвост… слежка! И захохотал. Сделал петлю, шарканье не отстает. Прошел между колоннами Ангельского мостика, поднялся наверх, встал — верно: тоже поднялся! тоже встал! Комедия! Настоящая комедия! Борис, нахально улыбаясь, подошел к нему. Человек в картузе не смутился. Только воротник приподнял. Стоит, курит, даже сплюнул вниз. Типичное эстонское лицо.
— Следите? — сказал Ребров. — Ну, следите, следите. — Человек стоял и смотрел на него с безразличием собаки. — Я вам докладываю: иду к Ивану Каблукову. Так и доложите вашему начальству! Запишите сразу. Продиктую и адрес! Не хотите? Что смотрите? Доложите вашему начальству: Ребров ходил к Каблукову!
Человек даже не моргнул. Ему было все равно. Он стоял и мимо плеча художника смотрел куда-то. Из приоткрытого рта шел дымок. Художник усмехнулся, покачал головой, воскликнул: Quelle betise![78] — повернулся и пошел вниз по ступенькам.
Каблуков и Тимофей были у себя. Что-то клеили. Иван вырезал ножом куколок, а Тимофей их обклеивал. С порога Ребров бросил Ивану листовку, письмо, сказал, что заходить не станет, даже раздеваться не станет, и пошел в атаку:
— Передайте вашему брату, чтоб эти, из Харбина, мне больше ничего не слали! Я в тюрьму по вашей милости угодил! Двое суток просидел. Пять раз вызывали на допрос, не кормили и спать не давали. Напишите брату или кому он там пишет, чтоб на мой адрес не присылали. Если хотят и дальше это поддерживать, пусть с Солодовым или с Сундуковым в Ревеле спишутся. А со мной — всё! Слышите? Кончено! Никаких штучек. Никаких посылок я никому слать не стану. Ишь как! Посылаешь кому-то, а там, оказывается, другой человек получает, а меня по вашей милости…
— Да замолчите вы, слушать тошно вас! — заорал Каблуков, сорвавшись со стула, взлетела лиловая пыль, что-то вспорхнуло. — По вашей милости, по вашей милости… — передразнил он, кривя рот так, что жилы на шее вздувались, а ноздри вздрагивали, как у лошади. — Это меня по вашей милости неделю продержали в холодной! Открылось кровотечение аж! Все он там наболтал, все выболтал: меня попросил Каблуков, Каблуков сказал… Каблуков, Каблуков… Понаписали там невесть чего… везде Каблуков… Все, чего и не было! В каждом предложении — Каблуков, как запятая! Кто вас просил? Сказали б, что просто вашим именем подписался кто-нибудь…
Его лицо горело от гнева. Ребров потерял дыхание. Сглотнул. Закашлялся. Заговорил.
— Учить будете? Я вам не дам на меня орать!
— Это я вам не дам тут орать!
— Я вам тысячу раз говорил: меня это все не интересует. Не надо меня впутывать в ваши комбинации!
— Вас спросили — вы согласились.
— Бросайте это недостойное занятие!
— Ах, ты какой! — Каблуков всплеснул руками по-бабьи, хрустнул в коленях и, повернув слепое око к Тимофею, заговорил с ним краем рта, страшно поглядывая на ботинки художника, лицо и вся фигура его были жутко перекошены, во всем облике Ивана неожиданно сгустилась угроза, голос его звучал глухо, слова он проговаривал медленно: — Посмотри-ка на него, Тимка. Это твой друг. Пришел нас агитировать отречься от родины. Сам отрекся и нас зовет. Куда, спрашивается, зовет он нас? Посмотри на него и подумай, куда зовет тебя этот человек? Ну, что скажешь, Тимка? Сколько их вокруг, на каждом шагу, и каждый отречься подбивает. Мало нам того доктор-ишки, из-за которого меня в кутузке держали, так и этот еще понаписал… А теперь стоит, уму-разуму учит, я, значит, во всем виноват, а он вишь, какой — верно поступил. Эх! — Потряхивая кудрявой головой, он по-мужицки крякнул, словно выпил водки, губы даже утер рукавом, сел и, изменившись в лице, сосредоточился на письме. — Так, ну это-то нам все понятно. — Отложил письмо, развернул отчет, углубился. — Ага…
Он сидел так, словно художника не было. Ребров хотел было пойти, но тут он почувствовал, что так и не получил от Ивана твердого ответа, который гарантировал бы то, что присылать ему посылки больше не будут.
— Послушайте, — сказал он более спокойным голосом. — Вас я никак обидеть или сдать полиции не хотел и не хочу, я там написал «Алексей Каблуков», а ему тут навредить не могут… вашего имени я не упомянул…
— Я и брат — это одно и то же, — буркнул Иван, не отрываясь от бумаг.
— Хорошо. Но послушайте, там уже знали про встречу на квартире у Терниковского…
— Об этом весь город знал, — сказал Иван, не отрываясь от бумаг.
— Там знали, что мы с вами были на той квартире! Про нас кто-то донес!
— Кто-то донес… Теперь вы можете говорить что угодно: там знали, кто-то донес… После того, как вы там побывали, можете говорить что угодно… Той квартиры уж год как нет.
— Значит, так, хватит! Больше мне ничего не присылать. И сами угомонились бы…