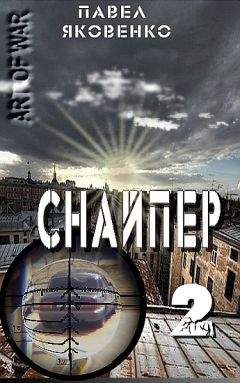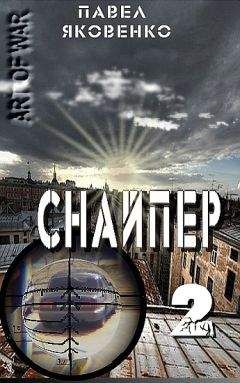Андрей Иванов - Харбинские мотыльки
Несмотря на то, что Борис никогда не читал газет и ничем не интересовался, он сразу почуял: брехня! Но его поразило то, с каким воодушевлением это письмо было воспринято. Они поверили каждому слову. Кричали: вот какое, оказывается, положение вещей! Нам лгут! Советские газетенки врут! Вот она — правда! Достоверные сведения от монаха, который из России в Англию добирался пешком, все это сам видел, а потом рассказал Алексею. Монах не мог врать. О, как легко ему удавалось морочить головы этим людям!
Долго преследовал Бориса призрак Алексея Каблукова, спать не давал. Он представлял себе этого человека, пытался понять, как он устроен изнутри. Пытался просочиться под маску. Откуда в восковом прогорклом святоше тяга управлять этими куклами? Он и меня хотел в свою веру окунуть. Несомненно. Письма писал: враг, враг… к каждому приставлен враг… весь мир нашептал враг… Враг разрушил Византию, потому что опасался враг, что монахи практикуют исихазм, который выведет человека из тьмы к свету, и тогда узрит врага… То же с Россией… большевики и враг… жидо-масонская сатанинская лавочка… церкви взрывают, да и в Эстонии часовню-то снесли, на собор Александра Невского замахнулись, все по наущению совпредов, влияние бесспорное, т. к. самим эстонцам все равно — стоят церкви и стоят… но большевики запустили руку… часовню снесли, памятник Петру расплавили на кроны… И про тайное знание, в которое он был посвящен чуть ли не с детства — бабушка рассказывала на ночь, в монастырских кельях укрепилось. Но это не объясняет того, почему он толкает голодных, больных людей на самоубийство! Зачем фашизм? Ладно, фашизм… Но зачем они ему? Что он с этого получает? Ведь не платят ему за число душ, обращенных в новую веру. Так какое удовольствие? Если не серебро, то что? Какой прок с них ему? А с мертвых тем паче… Нет, нету смысла. Для каких целей он подпитывает их ядом и лживыми письмами? Хотел бы я знать, правда ли то, что он пишет, будто встречается с министрами, учеными, князьями. Даже если так, что с того? Не плюнуть ли на этих нищих, раз вращаешься в высших сферах? Нет, продолжает писать, сообщать: виделся с Элиотом, погруженный в себя мистик, аскет, великий ум и так далее… И я бы такое смог написать кому угодно про кого угодно… Может, не было Элиота? Зачем врать? Поразить всех этих? Какое же это низкое удовольствие! А если был, что с того? Какой прок? Если б, как Хлестаков, доил он элиотов, а то… облат в каком-то аббатстве, и денег часто не хватает, тоже голодает… Так в чем смысл? Где скрывается выгода?
Борис сгорал по ночам от бессонницы, а если засыпал, в снах ему являлся Алексей: он приезжал на шикарном автомобиле, за рулем сидел человек в цилиндре, у Алексея голова была непокрыта, одет он был странно, в нечто подобное рясе. Алексей распахивал дверцу, приглашал Реброва. Художник стыдился, но почему-то не мог противиться, садился с ним рядом и, подавленный, ехал, а тот ему говорил странные вещи, которые забывались тотчас по пробуждении. Ребров вскакивал мокрый, его трясло от омерзения и стыда. Он клялся, что разоблачит негодяя перед всеми — в первую очередь перед его родным братом. Я им докажу, что их за нос водят, они поймут, я им открою глаза… но быстро успокаивался, ему хотелось плюнуть на них на всех: пусть подыхают, если им так нравится, пусть загибаются от своей борьбы! Значит, им это необходимо. А этот пользуется, подстегивает, в костер листовки подбрасывает — и пусть горят!
Но все равно не мог перестать думать, не давали ему покоя вести от Тимофея, опять он писал, что дела совсем плохи, опять жаловался на судьбу; Борис отвечал ему, чтоб он бросил все это! Пиши стихи! Ты талантливый поэт, зачем тебе этот фашизм? Занимайся поэзией, учись, работай, ходи в кружок и т. п. Что угодно, только не Иван со своими «азбуками». Но тот крепко вбил себе в голову, что виноват в том, что случилось с Иваном. Борис понимал, что тут образовался мертвый узел. Переубедить Тимофея не получится. Даже если он переубедит Ивана, мальчишка все равно будет виной привязан к нему. Плевать на них всех. Никого Ребров разубеждать не хотел, даже думать об увечном не мог (увечье не пробуждало жалости к этому человеку, наоборот: оно усиливало отвращение). Вместо этого Борис снова пытался понять Алексея. Где совесть? Как же так — родного брата, калеку-туберкулезника, толкать в могилу, ведь Иван ему пишет: дела идут из рук вон плохо… и Тимофей ему пишет, что с Иваном совсем плохо… Тимофей даже настоятелю в Печерский монастырь писал и какому-то митрополиту, у которого Алексей секретарем был в Берлине, тоже писал: напишите Алексею, чтоб прислал нам средств… пусть вывезет брата! Тот прислал им что-то… и снова: пачки из Харбина, бюллетени, письма, отчеты… Видимо, не человек с той стороны пишет, уже не человек…
Бессонной ночью как-то поднялся и впотьмах, не зажигая свечей, набросал что-то, но так и не уснул: писал весь день. В творческом припадке за двое суток написал картину, на которой изобразил Алексея Каблукова в дорогом английском твидовом костюме, лицо его было пустотелой маской, за которой располагался крохотный штаб лилипутов с пишущими машинками, типографским станком, большими счетами и сейфом, в разрезе тело этого существа было чем-то вроде крепости, оснащенной различными машинами, которыми управляли другие лилипуты, изможденные, почти скелеты, они тянули канатики, заставляя вращаться шестерни. Борис назвал картину «Мессия» и даже взялся писать поэму «Антихрист» — воодушевился, несколько дней ходил сам не свой, по ночам вскакивал и записывал, все у него образы в голове всполохами возникали: то кровавые закаты, в которые на дирижаблях уплывали генералы испражняться на толпы, то огромный шатер, в котором человек из цилиндра вынимал младенцев, — но быстро охладел, собрал все стихи и спалил в печке, пил вино, курил и жег с ненормальным наслаждением.
Их не было дома. Вдоль стены росли хризантемы, насмешливо покачивались. В коридоре у двери на вешалке пальто, на полке кепка. Борис так пачку прямо и поставил у двери, где у них безобразно стоптанная обувь стояла, со злостью на грязные башмаки пачку и поставил. Сам пошел к Засекиным. С Милой поговорить. Тоже точку ставить. Пора! Хватит! Достаточно измучил себя. Булавка! Сейчас припомню тебе булавку!
Доплелся. Позвонил. Была одна. Входить не стал.
— Я на два слова, — сказал он угрюмо.
— Ну, как хочешь…
Кошачья улыбочка, масляные глазки, нега во всем теле, покачивание юбки и локон на палец накручивает, накручивает…
— В общем, между нами все кончено. Было это неинтересно, и нет в этих отношениях смысла, — выпалил он, не глядя ей в глаза, и пошел вниз.
— Еще совсем недавно тебе нравилось! — крикнула она ему вслед.
Ступеньки. Ступеньки.
— Передумаешь, я не обижусь!
— Не передумаю! — крикнул, не оборачиваясь.
— Не зарекайся!
Смех, ступеньки, смех, ступеньки…
По пути к Каблукову ему встретилась Варя.
— А я и не знала, что вы в Тарту!
— Я и сам не знал, что возьму и приеду. Я, никого не предупреждая…
Она принялась щебетать:
— А Борис Вильде, представляете, у Жида живет!
— Что? — вздрогнул Ребров. — Какой Вильде, простите?
— Ну, Борис Вильде — писатель наш. — Варенька взмахнула рукой и изобразила в лице нечто: поморгала — видимо, так она изображала Вильде или нечто писательское. — Раз, и у Жида!
— У какого жида? — смутился Ребров.
— Как у какого? Ну, Андре Жид, писатель! Знаете?
— Ах! Ну, ну… А что, он не мог получше устроиться?
— Куда уж лучше-то?! Самый популярный сегодня в Европе писатель, если не в мире…
— Да?
— А вы и не знали?
— Признаться, первый раз слышу.
— Неужели? Фу, какой вы! — Она толкнула его легонько, и вдруг понизив голос быстро проговорила: — Кстати, он собирается жениться, и это на вторую неделю в Париже!
— Кто? Жид?
— Да не Жид — Борис Вильде!!! Да что с вами?
— Не знаю. А что?
— Вы как не в себе. Он приехал из Германии и сразу со всеми познакомился, представляете, гол как сокол, без второй пары брюк и костюма, а его принимают в салонах и всюду вхож, все от него в восторге! Он почти ни слова по-французски, а через две недели пишет: теперь я проживаю у Андре Жида… мои рассказы на французский переводят… и еще — я женюсь… На принцессе! Представляете!
— Да, да…
Что за глупости! Жид, какое мне дело до какого-то писателя во Франции? До какого-то Вильде! До принцесс! Чихать я хотел на принцесс! Проглотил все это. Извинился. Варя предложила зайти в кафе; он извинился. Дела… Снял шляпу, отступил на шаг. Дела… Вечером поезд. Шаг… Нет времени. Простите. Пошел опять к Каблуковым. Никого! Где черти носят? Но пачка пропала. Бродить у реки не стал — ветер с дождем. Пошел в кафе: ужасная трата денег — и совершенно бессмысленная. Один смысл в этой поездке есть: избавиться одним махом от всех. Не бросаться же в реку из-за них! И засмеялся. Он сидел в кафе, курил, пил кофе с коньяком, смотрел на улицу и смеялся. В самом деле, не бросаться же из-за всех этих дураков в реку! По лицу его бежали слезы. Из-за этих… Никак было не остановить смех. Неужели истерика? Да, точно — настоящая истерика! Руки тряслись. Он сжал их. Еще коньяку, еще… Неожиданно поймал на себе взгляд — на улице стояла Варенька, смотрела на него, вот только отказавшегося с ней зайти в кафе посидеть, стояла и смотрела, сделала губки, сказать, наверное, хотела: вот вы какие! Он отвернулся. Встал, подошел и заказал себе еще коньяку и кофе. Мне все равно, твердил он про себя. Сел и сижу. Как мне это все опротивело! — вдруг всплеснуло в голове. — Вот если б вы, Варенька, знали, вот если б все знали: как мне все опротивело! Вы бы там не встали так и не смотрели на человека сквозь стекло… Если б вы все что-нибудь… хоть что-нибудь знали о человеке, на которого так смотрите… Если б вы, Варенька, знали, со сколькими вещами и людьми приходится сталкиваться, чтобы погладить одежду! Чтобы выглядеть что называется «прилично»… если б… думать обо всех этих мелочах вместо главного… и еще смеете ждать от человека чего-то… если б вы знали, что человеку приходится с собой делать, на что идти… А вы приходите без предупреждения, рассказываете байки о том, как кто-то где-то женился, застрелился, подвесил вам крысу, заставляете с чужими женами танцевать, целоваться, бегать с пачками ненавистных газет, смеетесь, допрашиваете, вынуждаете слушать ваши глупости… принцессы, кокаин, проститутки… шубку распахнула, а под шубкой ничего… Вот под шубкой той как раз — мое!