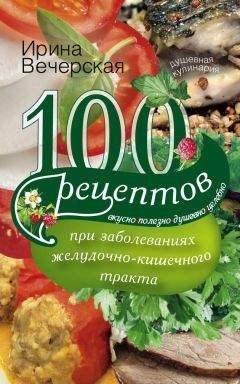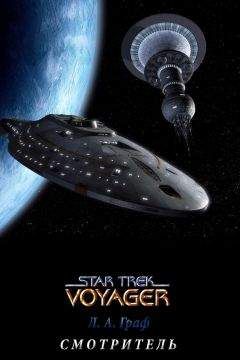Наталья Головина - Возвращение
— Итак, ваше мнение — хороша всякая обличительная литература; наше — лишь с новым типом борца, сознательно жертвенного склада.
— Это не вся разница: мы не имеем привычки небрежно говорить о тех явлениях русской жизни, которые, в силу своей мучительности и сложности, требуют пристального рассмотрения.
— Вопрос вежливости?
— Нет, тактики!
— Ну что же, «Современник» отдает должное останкам «лишних» и всяческим прочим останкам, однако…
— Все мы куда как сильны отрицанием и готовы не медля — всякого Перуна в воду. Вред от ниспровержения выношенного и дорогого не только по привычке — куда весомее, чем сиюминутная польза, полезным оно может видеться лишь с узкопартийных позиций.
— Да полноте, снявши шляпы перед литературными реликвиями, мы не решим сегодняшних проблем. Не видите ли вы сами необходимость переменить теперь свою линию?
— Вы приехали сделать выговор отстающим ученикам?
Было бы невозможно полностью воссоздать их разговор, имеющий программный смысл. Но известны, по воспоминаниям той и другой участвовавшей в нем стороны, затронутые проблемы и интонации ответов. Есть также позднейшее заявление Чернышевского о том, что он собирался добиться от «лондонцев» объяснения на равных с «Современником», влияние которого в России было примерно сопоставимо с популярностью «Колокола». Намеревался «ломать хозяев»…
Атмосфера их разговора была напряженной. Чернышевскому тридцать один, и только двадцать три было побывавшему здесь недавно Добролюбову. Они впитывали революционность из Фейербаха (критерий правильности учения — действительность), из Гегелевой диалектики и Герцена. Молодой Николай Гаврилович Чернышевский в пору, когда объяснялся с невестой Ольгой, с тем чтобы она взвесила для себя их возможное будущее, рассказал ей о судьбе и семье Искандера. Но теперь в их лице столкнулись поколения, каждое со своей правотой, со своим пониманием насущных задач времени.
Чернышевский, по мнению его собеседника, говорил чуть свысока, Герцен же, по впечатлению гостя, был приметно раздражен.
— Однако, Николай Гаврилович… поскольку мы оба — как главное — о другом, покончим сначала с мелочами. Жаль, что ирония наша была принята за оскорбительный намек, его мы не имели в виду. И полно о том.
Герцен видел впечатление, произведенное его словами. Гость не ожидал, чтобы он мог попросить извинения, отчасти потому, что не щадить самолюбий и не извиняться было принято в их питерском кругу, а кроме того, не ждал — как от европейской знаменитости и «светила»… Александр Иванович мысленно вспыхнул: «Это уж даже несколько оскорбительно…»
Они не знали привычек, склонностей и обыкновений друг друга, и это еще будет порождать между ними немало недоразумений. С трудом пробивалось через них взаимное уважение.
Последовали минуты растроганной откровенности приезжего, когда он говорил о перечувствованном в юности над книгами и о том, что только существование здесь, вдалеке, «Колокола» согревало его в иные минуты на родине.
Хозяин держался холодно. С отъединенным и слегка демонстративным спокойствием. Их отношения несколько потеплели лишь к концу долгих часов первого дня их переговоров.
Однако, прощаясь окончательно перед отъездом Чернышевского, они пожали друг другу руки. (Николай Гаврилович захватил с собой комплект «Колокола», но не для доставки его в Россию — собирался просмотреть его в отеле: даже в это относительно спокойное время он строгий конспиратор. И достигнута была договоренность о возможном издании «Современника» в Лондоне, выход которого в настоящее время в России был приостановлен на восемь месяцев.)
Однако нужно представить себе, каким Герцен увидел гостя, это существенно.
Тот молод, очень худощав и близорук. Раскланялся с пыльником, оставленным Огаревым в кресле… Взгляд его темных глаз был вдумчив и почти стеснителен, бледноватое припухшее лицо скуласто. Как отметила позднее Наталия, в их госте была «особая красота некрасивых… печать самоотвержения и готовность принять свою судьбу», и Герцен согласился с ее наблюдением, хотя обычно их мнения не слишком совпадали. Он увидел также в Чернышевском четкость человека дела. И щепетильность не столь далеко ушедшей в прошлое бедности.
Гость тронул пухлую щеку двухлетней Лизы и сказал с рассеянной ласковостью:
— У меня тоже есть такие… Но почти не вижу их.
Его сыновья Миша с Сашей и жена Ольга Сократовна нынешним летом жили на снятой им даче в Любани под Питером. Ольга неприметно и ровно, даже весело на сторонний взгляд, по природной отваге несла свой крест, но была рада, что теперь, в эти месяцы, можно обойтись без нашествия посетителей, без конспирации. «Милая радость» его — жена…
Такую и искал, встретил в родном Саратове, когда вернулся туда после университета преподавателем гимназии. Впереди у него были защита диссертации, Петербург, «Современник».
Ольга Сократовна Васильева была дочерью врача. Красивая: с точеными чертами и глазами-вишнями. И не робка — гребла на лодке и каталась на коньках, на что в Саратове для женщины нужна была смелость. Он объяснился с ней решительно, едва познакомясь: «Я пылаю к вам страстной любовью, но только с условием, что то, что я предполагаю в вас, действительно есть в вас». Предупреждал затем ее относительно своего возможного будущего: «Я нисколько не дорожу жизнью для торжества моих убеждений».
Она выслушала его предостережения, пожалуй чуть скучая. Но не отшатнулась от него. Это была натура, угадал он, которую увлекала мужская смелость и цель.
Хотя в исполнение его заветных устремлений (он дал понять их направленность) не слишком верила, — считала, что с его широтой и энергией, он станет, скажем, знаменитым ученым; хотела уехать с ним из Саратова, где им обоим было тесно. Насмешничала над его робостью в мелочах, неловкими манерами. Лишь спустя несколько лет, когда была почти при смерти после рождения их второго сына, сказала Николаю Гавриловичу, что любит его… Она разуверилась бы в нем, понимал Чернышевский, если бы он стал только знаменитым ученым… хотя надеялась на это…
Шагом в революцию была уже его диссертация.
Гема ее — «материалистическая» этика и эстетика. Прекрасное есть жизнь без изъятия из нее трудного и страшного. В работе была также намечена мысль о закономерности смены общественных формаций — ведущее положение создаваемого в те же годы Марксова «Капитала».
Из стремления человека к собственной пользе Чернышевским и выводился прогресс, последовательное применение к жизни этого принципа, по его мысли, ведет к социализму. «Собственную пользу» он трактовал как трудовые усилия, борьбу и самоотверженность человека, — не правда ли, все это ему присуще? (Оно бы верно, если бы человек исчерпывался только данными свойствами, думал о том же не раз Александр Иванович.)
Итак, «материалистическая» этика.
Утилитарная, на потребу будущего общественного переворота, полагал Герцен. «Урезывание» понятий и массовая их пропаганда в таком виде опасны! Это его давнишний спор с самим собою — теперь вот с молодым сподвижником. «Можно опереться на сегодняшнее в человеке» — суть позиции гостя. «Вырастить нового… увы, не скоро еще переделать массового человека» — мысль Герцена. Молодая горячность отстаивала более скорый путь.
Именно о вероисповедании того и другого и было говорено в эту их встречу.
Так вот, о впечатлении, производимом приезжим на хозяина дома. Есть люди, при взгляде на которых нетрудно представить себе их жизнь, быт, будущее… К тому же Александр Иванович немало слышал о Чернышевском от своих прежних посетителей. В его петербургский дом потоком идут литераторы, профессора, офицеры, студенты, а порой собирается самый узкий круг: Обручев, Слепцов, Утин, Серно-Соловьевич — сердцевина тайной организации «Земля и воля». Уложив детей, Ольга Сократовна энергично играет в таких случаях на фортепьяно и время от времени выходит на улицу, как бы мимоходом сообщает прохожим: «У Чернышевских веселятся!» Их дом вызывает сыскное любопытство. Явно подкуплен швейцар. Долго ли продержатся «землевольцы» даже при немалой осторожности и проницательности Чернышевского?
Некрасов напишет о нем впоследствии:
Его еще покамест не распяли,
Но час придет, он будет на кресте.
Молодой гость — надо было отдать ему справедливость — был подчеркнуто земным в поведении и чуждым какой-либо мистической фразы о своем назначении, но воспринимался его сподвижниками и окружающими именно как мессия, апостол. Юпитер… ты ревнуешь? спросил сам себя Александр Иванович. Отчасти это было неизбежно.
О тактике.
Встретились вновь через несколько дней за чайным столом, в саду под запоздало цветущими каштанами. На столе были самовар, сливки, крендели, ростбиф по-английски. Герцен только что закончил разбирать письма из России и был раздосадован: опять неверные сведения. «Ну что за недобросовестность! Зачем?»