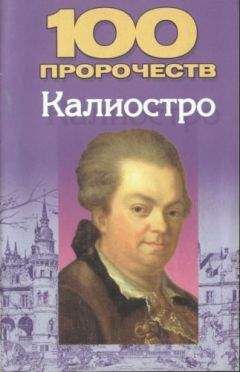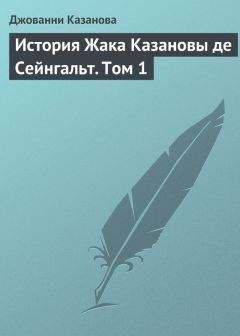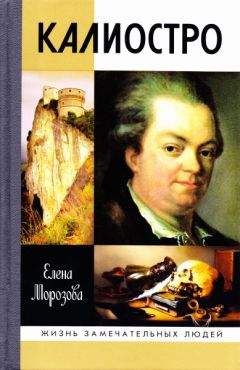Ёжи Журек - Казанова
— Ты давно здесь?
Иеремия невразумительно что-то пробормотал, теперь уже глядя в пол. Сухие травинки в волосах. Должно быть, спал за сценой. Не важно. Важно дожить до завтра.
— Ладно. Отведешь Полю домой. Я еще задержусь ненадолго.
Джакомо плохо помнил, как и когда оказался в своей постели. Точно так же он раньше затруднился бы сказать, зачем остался. Уж наверное, не для того, чтобы в конце концов наткнуться на компанию подвыпивших гуляк в офицерских мундирах и, поддавшись их уговорам, отправиться в поход по каким-то грязным и шумным кабакам. Кому он не решился отказать — им или себе? Впрочем, не важно — погулял на славу. Хотел отдохнуть, а устал так, что едва дышит. Хотел избавиться от ненужных мыслей, а теперь голова тяжелая, как котел. Хотел напиться — пил, пил, но жажда только усиливалась. В него вселился какой-то демон противоречия. Он прекрасно знал, чего не надо делать, и именно это делал с большим удовольствием. Ставил кому ни попадя, орал на всех языках мира, рвался в драку и, главное, поглощал рюмку за рюмкой омерзительной водки. От одного запаха которой хотелось блевать, а от вкуса — умереть на месте. Проснулся посреди ночи, почувствовав, что сейчас произойдет и то и другое.
Скорее, все же его разбудили: из глубины дома доносились какие-то звуки, кашель, что-то со стуком упало. Пожар? По крайней мере, воды будет вдоволь, а то сейчас — ни капли. Этот болван Василь, конечно, не позаботился. «Василь!» — закричал Джакомо что было сил, но… с губ не сорвалось ни звука. Господи, может быть, он уже на том свете, может, это вовсе не явь и не сон…
Лихорадочно ощупал себя. Голова, ноги — все на месте; сердце бьется. Живой. Это главное. Синяк на лбу до завтра сойдет. А нет — высыпет на него кило пудры. Болело еще в одном месте, но тут уж он помнил отчего. Поля. Поразительная Поля. Здоровенная туша с дырочкой Беттины. Еще немного, и от него бы мокрого места не осталось. Она-то куда девалась — должна быть при нем, облегчить страдания, напоить, помассировать голову. Ох, вытянуться бы сейчас рядом с этим телом, прохладным, озябшим во сне, лежать, ни о чем не думая, и радоваться любым проявлениям жизни. Отдыхать. Потом тронуть ее пальцем, легонько, чтобы явственнее ощутить прикосновение, быть может, перебросить через нее ноги — на всякий случай, чтобы не убежала, — и так дождаться утра.
Пить. Все равно что, хоть воду из таза. Но и таза не видно. Ну и банда. Он подохнет от жажды, и ни один из этих дармоедов пальцем не шевельнет. А ведь они здесь, здесь, он слышит чей-то неунимающийся кашель. Медленно встал, голова закружилась, желудок подскочил к горлу, но холодный пол под ногами сразу привел его в чувство. Открыл дверь в сени: где-то тут должно быть ведро с водой. Уже нащупал железную ручку и привязанную к ней кружку, как снова, отчетливо и близко, услышал звук, который раньше, не задумываясь, принял за кашель. Неужели он настолько пьян, так отупел, что не может отличить любовный стон от харканья чахоточного? И не узнать голоса, который совсем еще недавно сверлил ему уши. Поля? С Василем?
Кружка выпала из рук и плюхнулась в невидимую воду. Джакомо едва сдержался, чтобы не пнуть ведро ногой. Совсем сдурел из-за этой проклятой водки. Кто он? Одиннадцатилетний мальчишка, топчущийся, дрожа от холода и волнения, в коридоре под дверью Беттины, которая не отзывается на его шепот и стук, не впускает к себе, забыла клятвы, навеки связавшие их прошлой ночью? Еще не познавший женщины сопляк в ночной рубашке, услышавший на лестнице шаги возвращающегося домой хозяина и увидевший, как распахивается дверь другой комнаты, где живет этот прыщавый ублюдок Берти, и на пороге появляется его возлюбленная Беттина, судорожно подтягивающая чулки?
Вот именно. Он еще не окончательно лишился ума. Какие одиннадцать лет, какая рубашка? — на нем только разорванные на животе панталоны. Дрался, отбивался от каких-то подонков? Кажется, за их компанией из кабака в кабак таскалось несколько подозрительных типов. Хорошо, он успел раньше истратить деньги. Но Василю все равно надает по шее, в лучшем восточном стиле. Что за беспорядок в доме! Ни воды под рукой, ни ночной рубашки. За что этот сукин сын получает жалованье? За то, что потаскух шворит?
Тишина. Только в голове шумит. Джакомо по локоть опустил в ведро руку. Вода была ледяная, но если бы сейчас пришлось выбирать между кружкой родниковой воды и прекраснейшей из женщин, он бы ни секунды не колебался. Ну, может, секунду, прикидывая, нельзя ли совместить то и другое, но потом прильнул бы губами к кружке и пил, пил, пока дух не захватит.
Ну наконец-то. Облегчение. И тишина. Это главное. Опять, верно, почудилось; и что за мерзость лезет в голову? Да и какое ему дело до этой ненасытной шлюхи? — его сейчас вообще ничто не должно интересовать. Обратно в постель и спать, спать, исчезнуть из этого мира — вот единственное, что ему хочется сделать. И незамедлительно. Но сделал он совсем другое.
Внезапно сверкнула мысль: а что, если этот утомительный безумный день, изнуривший ум и тело, подготовил наступление единственной, самой важной минуты? Сейчас у него все получится, не может не получиться. Разве мир не соткан из противоречий, разве он, Джакомо Казанова, не был сегодня унижен и не унижался сам ради того, чтобы наконец воспарить? И чем ниже пал, тем выше вознесется. Никого нет. Даже этот бородатый дьявол, чей пронзительный взгляд он с некоторых пор все чаще ощущает затылком, наверно, храпит без задних ног. Видимо, так и должно быть. Безо всяких свидетелей он покажет свою истинную силу. Она уже вибрирует в каждой клеточке тела. Еще несколько мгновений — собраться с мыслями, напрячь все мышцы для последнего усилия, — и он, вершок за вершком, оторвет сперва одну, потом другую стопу от каменного пола и повиснет в воздухе. А может быть, и взлетит, вспорхнет, как птица. Если б не этот идиотский низкий потолок…
Джакомо попробовал оторваться от пола, но пол приподнялся вместе с ним. Это еще что? Злобная выходка материи, защищающей свои права? Сто тысяч храпящих чертей! Он плевал на эти права, нужно только повыше подпрыгнуть, земля сама уйдет из-под ног. Подпрыгнул, повис на секунду в воздухе, но, не успев обрадоваться, снова почувствовал под ступнями каменную твердь. Ах так? Что ж, попробуем по-другому.
Нащупал у стены продолговатый предмет. Скамейка. В темноте все стороны света перемешались, закружились, вовлекая его в бешеный водоворот: даже не двигаясь с места, он с трудом удерживал равновесие. Тем не менее взобрался на расшатанную доску, выпрямился, раскинул руки. Он орел, орел, расправляющий крылья над пропастью, в которую сейчас бросится лишь затем, чтобы ее покорить и высмеять, и это произойдет, едва он, взмахнув могучими крылами, величаво воспарит ввысь.
Прыгнул. Со стуком бухнулся на колени; впрочем, пола коснулось лишь одно из них. Схватился за что-то, хотел подтянуться, чтобы окончательно не упасть, а затем, быть может, с трудом — уже не как орел, а как человек, — взлететь, но не успел. Стена вдруг куда-то отъехала, и, еще не поняв, что происходит, цепляясь за ручку распахнувшейся двери, он влетел в небольшую комнату. Там было светлее, чем в коридоре, да и глаза уже привыкли к темноте. Поля. Пышное Полино тело, обвившееся вокруг чьих-то ног, бедер, плечей. Но этот стройный, мальчишеский торс не может принадлежать Василю. Иеремия, разрази его гром! Ну и ну, смекалистый оказался ученик. Поля и Иеремия. Спят или притворяются, что спят. Не важно.
Джакомо тихонько попятился и закрыл за собою дверь. Опять его мучила жажда и кружилась голова. Взорваться от ярости помешало лишь сознание, что немного он все-таки полетал.
День начался скверно. Сперва он выбранил Василя за то, что тот не протопил печь, а потом за то, что протопил и напустил полную комнату дыма: уж лучше замерзнуть, чем задохнуться. Эта жалкая рассудительность, имеющая мало общего со здравым смыслом, который, как правило, не изменял Казанове, пока его не занесло в эту проклятую страну, стоила Василю сильного пинка и обещания последующих, если он немедленно не приведет кого-нибудь, кто бы починил чертову печку. У Джакомо стучало в висках и бунтовал желудок при одном воспоминании о том, сколько гадости было вчера съедено и выпито. А тут еще глаза стали слезиться от едкого дыма. Содом и Гоморра. Он залил очаг водой и открыл окно.
Стало немного полегче. По крайней мере, можно было дышать. От первого глотка свежего воздуха Джакомо закашлялся, сплюнул, громко высморкался. С улицы донеслись невнятные звуки — то ли сдавленные проклятья, то ли отголоски перепалки; мимо шли люди, один мужчина повернул и направился к их дому, но — наткнувшись на взгляд Казановы? — остановился, прислонившись к стене, и стал раскуривать сигару. Знакомый? Нет. С таким хамьем он не знается. Откуда же чувство тревоги? Чепуха. Мир — увы, серый — вступает в очередной день своей — увы, безрадостной — жизни, торговки на площади визгливо переругиваются, возницы щелкают кнутами, с подвод на землю летят связки поленьев и бидоны с молоком, все так же, как было и как будет, но почему-то на лбу выступил холодный пот от страха. Опять за ним кто-то следит?