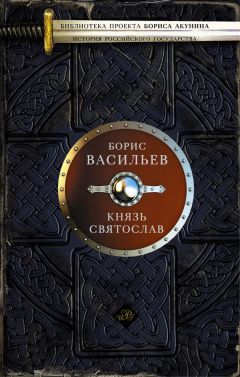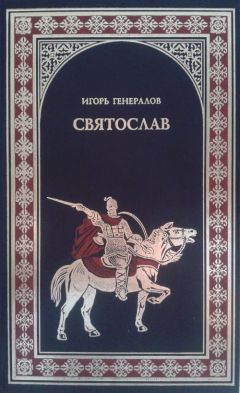Ольга Гладышева - Крест. Иван II Красный. Том 2
Вестник был из отцовых кабальных холопов, человек верный. В кабале он только числился, а использовали его Вельяминовы для разных склизких поручений, ловкости и даже некоторой отваги требующих. Платили за каждое из них отдельно и неплохо, но он денег не тратил, копил на собственное дело, потому что был ремесленник хороший, только по нечаянности от пожара разорившийся. Мало кто знал, что он вельяминовский. Жизнь он вёл скрытную. Стоял сейчас перед княгиней в свите из мешковины, укрытый ещё и вотолой, — утро было знобкое, глядел покойно, без подобострастия. Был он молод, ровесник княгине, в плечах могуч. Единственное, что выдавало его небедность, сапоги. Хоть и простые, да всё не лапти.
Обоюдное молчание затянулось. Княгиня и позабыла, что нарушает приличия, сидит с непокрытой головой, ждала, что подаст вестник грамотку. А он сказал:
— На словах велено.
- Ну?
— Всей семьёй в Сарай отъехали.
— Зачем? — вырвалось у неё. Хотя что тут спрашивать!
Он оглянулся.
— С жалобой на великого князя Ивана Ивановича.
Она перевела дыхание. Ещё тугше узел завязался. Погодя спросила:
— А на Москве что слыхать?
Он не то чтобы замялся, но помедлил с ответом продолжительно.
— Не знаю, передавать ли тебе? Вздор всякий несут.
— Давай вздор, — приказала она.
Он ещё понизил голос, хотя и так говорил чуть слышно:
— Дворовый слуга боярина Мороза, по дружбе большой ко мне, сказывал, что в подвале у него...
Лицо княгини медленно побелело.
— Что?
— На цепи кто-то лает и воет.
— Каки ужасти! — обронила она чужим голосом. — Сплетни, думаю.
— Знамо, так, — согласился вестник — Он ей в плошке еду носит, бает, на шее у ней ожерелье повешено золотое, кованое. А ожерелье энто княгини Ульяны.
— Какой Ульяны? Нашей?
— Вашей. Мачехи великого князя.
— Как же попало оно в подземелие?
— А сковал его покойный Иван Данилович, свёкор твой, для первой своей жены Олены собственноручно. Посля Ульяне подарил. А как в подземелие к Морозу подало, не ведает никто.
Приступ хохота вдруг овладел Александрой.
— Ты ведь лжёшь! — выкрикнула.
— Лгу, — подтвердил вестник. — Но боле ничего не скажу.
— Значит, Ульянино?
— Её.
— Наверное ли известно?
— Которая воет, сама призналась, как оно к ней попало. А нам неведомо. В безумии она.
— Подозреваешь кого? Догадываешься?
— Помилуй, княгиня! Смею ли я?
— Кто ж его несчастной передарил, из кладовых наших дворцовых забравши?
— Отколе мне знать? Ты что?
— Да я тоже думаю, сплетни, — небрежно обронила Александра, кусая уголок платка ровными зубами. А глаза играли темно и грозно. — Иди, не пужайся. Промеж нас разговор останется.
— Я — могила! — горячо поклялся верный слуга.
Вслед ему раздался новый взрыв хохота. Страшно было слышать его.
3
Исполненный новой решимости, Иван Иванович ходил с утра босиком по дворцу и грыз орехи. Зубам — урон, а хочется. Из распахнутых настежь сеней задувал летний сквозняк, заворачивал края скатерти, шевелил занавеси, листы Патерика[36], забытого на столе Митей. Его уже учили грамоте, он любил разглядывать книги и даже пытался обводить чернилами буквы, за что был строго порицаем. Иван Иванович отсыпал сыну орехов меж страниц и тут увидал, что над цветною с золотом заставкою вкривь и вкось выведено киноварью: заставица люба. Ну что с ним делать: пороть или хвалить? Сам писать обучился! Сам решение вынес: заставица люба, понравилась, вишь, она ему. Иван засмеялся, отошёл. Ногам было тепло на струганых широких досках, там, где лежали квадраты солнца, даже и горячо. От шевеления занавесей, наоконников, налавочников, вздуваемых ветром, горница как бы покачнулась, поплыла, углы сместились, и, несмотря на ясное утро, отчего-то сделалось темновато. Это уже бывало с Иваном в последнее время, но не так сильно. Он прислонился к стене, разжал руку, орехи покатились под лавку. Грудь и голову стиснуло, стало вроде немного душно.
Вошла княгиня. Иван смотрел на неё тускло, беспомощно.
— Об чём тужишь? — зло крикнула Шура. — Блядку захотел?
— Какую ещё блядку? Опять ты начинаешь? Мало тебе ночи?
— А тебе нужны такие ночи?
Она стояла перед ним в широком полосатом летнике из жёлто-зелёной камки, волосы утянуты так, что глаза поехали к вискам, стали узкими, от бессонья в черноту провалились. На груди лежали глазенцы багровы, крупны, в несколько рядов. Было что-то в Шуре чужое и грозное.
— Что ты хочешь? — слабым голосом повторил он, пытаясь унять головокружение.
— Покоя хочу, искренности.
— Так и успокойся. — Он сел и пошевелил босыми пальцами. — Что-то мне ноне не по себе.
— Вестимо. — Шура тоже села, полуотвернувшись от него. — Видал ли ты когда ртуть? Пока она в сосуде, она едина, как душа в теле, а прольётся на землю, разобьётся на многие части и разлетится пуговицами.
— Ты качаешься, как ржавец-топь болотная, — поморщился Иван. — Надоела ты мне со своими иносказаниями.
— Так отошли меня, как Семён — Евпраксию. Дорожка протоптанная. — Иван только было открыл рот, чтоб начать ругаться по-настоящему, но жена опередила его: — И не рыкай на меня, резвец блядословный! Никакое чистило тебя не отчистит. Больше никогда не допущу до себя и тысячью проклятий осыплю до конца дней.
— За что, Шуша? — Он попытался взять её за руку.
— Ожерелье Ульянино куда дел?
Он с шумом выпустил из губ воздух:
— Пф-ф... Какое ожерелье ещё придумала? Ты спятила, по-моему.
— Которое ей от отца твоего перешло. А Иван Данилович его для твоей матери сковал. Где оно нонеча? Кому ты его подарил, память матери своей?
Иван знал кому, но сказал, что не помнит и что ничего не дарил.
— Ты хочешь казаться милостивым, на самом же деле ты просто расточителен и ничем не дорожишь.
— Милостив я, милостив, нежаден, негневлив, улыбками всех дарю, да приветом, да шуткою беззлобною.
— Ах ты! — Шура презрительно покачала головой. — Я одна знаю, каков ты! Вполне — только я одна!
— Неужли? — Он сделал вид, что изумляется. — Бес тебя водит, ведьма ты косматая! — Хотя Шура вовсе не была космата.
Княгиня «ведьму» пропустила мимо, в голосе её были и горечь и достоинство:
— Но никому не скажу. И не из долга супружеского — из стыда промолчу. Любовь всё может превозмочь — бедность, болезни, разлуку, претыкания судьбы, даже предательство. Одно её убивает безвозвратно — мелкое паскудство. И тогда я спрашиваю себя, есть ли об чём страдать-то, об чем слёзы лить?
— Любишь ты страдать-то! — язвительно отпустил Иван и не знал, об чём ещё говорить.
А Шура продолжала, то стуча пальцем по столу, то грозя им мужу:
— Не тебя корю и осуждаю, но распаление скотское между тобой и чужими жёнами. Может, ты и высокими глаголами это обозначаешь, но скотское оно потому, что живёшь во лжи, чтоб сохранить его и длить, ничем не жертвуя и супругу собственную потребляя к доставлению удобств и заботы душевной о тебе, как должное принимаешь мою ласку, а сердце твоё меж тем отвращено и обращено к желаниям низким. Ты-то страдать не любишь. Ты хочешь, чтоб был вокруг тебя вечный праздник: веселье, шутки, пляски и всеобщее потешание. Но с кем захотел бы ты разделить боль, неудачу, вину? Кому помочь? Ты всегда бежал этого. А без этого нет любви. Остальное же — игрища козлиные. Кому ты способен дать тихое душевное утешение? Сатана глядит твоими глазами и говорит твоими устами тонкими и лукавыми. Отрекаюсь тебя!.. Не о предпочтении тобою других плач мой — об осквернении жизни нашей, ибо ложь — замеска её. Обман источил доверие, а какая без этого поддержка другу другу и помощь? Мы стали враги молчащие, зржи обличений и укоров таящие, язвы души скрывающие и злобу уминающие воглубь, а страдания свои изжить не могущие.
«Сейчас немедля к Макридке пойду, — подумал в этом месте Иван, — и забуду с нею обличения сии, баяния высокомерные». Но покамест сидел и слушал, опустив голову, и скрёб под рубахой грудь, Макридкой многочисленно изласканную.
Шура перестала скрипеть голосом и закончила с тихой твёрдостью:
— Тебя в достоинствах твоих утвердила не честность брака и преданность жены, но притязания на тебя блудницы, кои лестны тебе. Или возвышаешься в своих глазах, радуя тем не Бога, но дьявола? В чём же добродетель твоя? Так отошли меня, если постыла. Преступив, преступи до конца, но не покрывайся супружеством, как платом, от осуждения. Тебя заботит, чтобы люди не узнали. Но Бог знает всегда. Так есть в тебе вера в Него? И кто же ты в естестве твоём? Тебе дано прельщение ко злу. Злом же и воздастся. И не стенай тогда, и не вини никого, кроме себя и прелести своей проклятой.