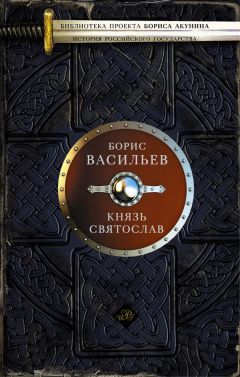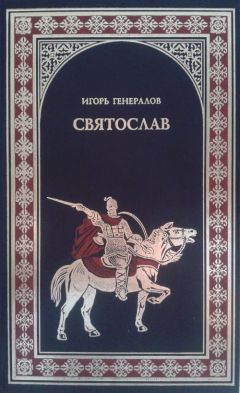Ольга Гладышева - Крест. Иван II Красный. Том 2
И тут раздался тонкий голосок Мити:
— А кто это мне в книжице орешков насорил?
Он смотрел на родителей, склонив набок тёмно-русую головку и нежным лукавством взгляда призывая их к примирению.
— Луканька[37], наверное. — Иван подошёл и обнял сына за худенькие плечи, притиснул к себе.
На лице у Шурочки мелькнуло бледное подобие улыбки. Ещё не остыв, превозмогая досаду, она показала; на заставку:
— А кто тут загнушки и кривлюшки напутлял?
— Тоже луканька, — прошептал Митя и спрятал лицо на груди у отца, зная, что напроказил, но, пожалуй, не накажут.
Иван поворошил его волосы:
— А мы с тобой на Тростенское озеро сбежим, да? Я же тебе обещал? — Митя поднял загоревшиеся глаза, крепче обхватил отца. — Маманя серчает да бранит нас, вот мы и уедем в Рузу, хочешь? Щуки там в Тростенском — с тебя ростом. Мы их наловим, вернёмся, маманя порадуется и простит нас.
Шура, ещё стараясь удержать подобающую строгость на лице, махнула на них руками, а сердце её уже таяло при виде обнявшихся дорогих ей людей. И посетила измученную душу спокойная, ясная мысль: великокняжество соединяет их всех сильнее и выше того, что разъединяет.
Лёгким торопким шагом вошёл тощий поп Акинф. Два листа бумаги трепетали у него в пальцах.
— Послание Ивану Ивановичу от хана Джанибека. Я уже перевёл.
Глава тридцать шестая
1
Ей приснилась песчаная эфа. Та, которая освобождает за два часа. Два плотных полукольца, а посередине приподнятая голова с белым крестом. Немигающий взгляд, стоячие зрачки и шипение, какое издают капли воды на раскалённой сковородке. Казалось, змея предупреждала:
«Уходи, я здесь, а то освобожу тебя».
«Я не боюсь. Что мне жизнь?» — возразила Тайдула.
«Просто дольше будешь мучиться». И змеиные глаза усмехнулись.
«Ты линяешь и неопасна».
«Яд накапливается и в дёснах. Уступи дорогу! Или я нападаю!»
Светлое тело изогнулось и метнулось к Тайдуле. Она закричала, срывая с шеи бьющиеся тугие кольца, и очнулась... в темноту. Только что расстилалась перед нею пустыня, вылизанная ветром, была тишина, одиночество, и тонкое марево дрожало вдали, а теперь снова тьма, встревоженные вопросы Умму, и неизвестно, есть ли звёзды на небе или уже начинается заря. Теперь Тайдула любила свои сны и ждала их, лишь во снах она жила. Лекари не могли ей помочь, шаманов она не хотела сама, часто слушала, как ей читают Коран, и ждала мужа. Он присылал к ней охромевшего окончательно Исабека спрашивать о здоровье, сам не пришёл ни разу. Ни в одной ночи он не был ей больше супругом.
Она приказала явиться к ней Бердибеку, ощупала его лицо, вдыхая запах сына — запах ветра, пота и здоровых молодых волос. Она догадывалась о его преступном нетерпении — он ждал, не начнёт ли она разговор об отце, не задумала ли царица наказать его или что другое... Ведь все уже знали, как равнодушен стал великий хан к некогда любимой жене.
— Поклянись, что никогда не оставишь меня! — Нежность и мука были в её гортани, в лёгких прикосновениях пальцев.
— Я всегда останусь твоим сыном, — сказал Бердибек. — Но когда начнётся мой путь, когда судьба укажет мне его...
— Я не встану на твоём пути и не помешаю тебе! — прервала Тайдула. — Хотя ты когда-нибудь поймёшь, как больно... как тяжело идти путём Чингисидов.
Великий Узбек любил своих сестёр: и ту, которая стала католичкой в Кафе, и бедную Тулунбай, сгинувшую в Каире, но, восходя на престол, устранил двенадцать братьев. Кажется, так? Двенадцать?.. И не слыхать было, чтоб страдал из-за этого. Ни дворцовые предания, ни летописи Джувейни не отразили и не упомянули, что великий хан мучился раскаянием. Он был только «солнцем правды», «повелителем мира», «избранником Небес» и прочее...
— Такова наша судьба, — глухо сказал Бердибек и прижался к лицу матери носом. — Больше не плачь. Да исполнится воля Аллаха.
Его походка в мягких сапогах была неслышной. Ушёл, как растаял. Цари понимают друг друга даже не с полуслова, а раньше.
Она испытала утомление и слабость. Что сказано, то сказано. Запертая во тьме, она готова была покориться. Но у неё есть сын, бешеный и своевольный Бердибек! Но она — царица! У неё есть власть, гордость и достоинство. Она хочет победы над тем, что угнетает её, и она добьётся возвращения своей славы и блеска!
Твои ресницы как кинжалы,
Твои наряды ярки, как цветы,
Твоя белая грудь как серебро,
Она белее, чем жемчуг твоего ожерелья.
Так писали в старину арабы, знавшие вкус жизни, изыск её и остроту. Тайдула не будет истлевать, как падаль. Не страшна гибель — страшнее презрение.
Впервые за долгое время она велела позвать великого хана.
Она не допускала мысли, что он отклонит её приглашение, но не надеялась, что придёт так скоро. Она узнала о его присутствии по дыханию, хотя он молчал.
— Сядь рядом, Джанибек, возьми меня за руку.
Он повиновался, но рука была чужая, безответная. А разве можно было ждать чего-то большего? Тайдула отодвинулась на ковре, чтобы горячий свет солнца не падал на её лицо.
— Я мать твоего старшего сына. Ты это помнишь?
— Ты избегаешь слова хатунь. — Улыбка была в его голосе. — Что ты хочешь? Ещё сына?
— Мне дорога твоя шутка... Но я хочу выздороветь.
Он, конечно, собирался сказать, что такова, мол, твоя судьба и прочее, но не успел.
— Я знаю, как пройдёт моё выздоровление. Ты поможешь мне?
— Приказывай, царица, — поспешно согласился он. — Что сделать для тебя?
— Призови русского митрополита.
— Иноверца?.. Ты меня удивляешь. Зачем?
— Ты хорошо образован, повелитель, и много знаешь. Многознающий смело глядит на противоречия мира и... снисходителен к слабостям своей хатуни. — Поблекшие губы Тайдулы покривились, что должно было означать улыбку. — Ты ведь помнишь, что Сартак, сын Батыя, был крещён и даже стал дьяконом?
— Но я помню также, что после смерти отца Сартак был умерщвлён своим дядей, ханом Берке.
— М-м-м... наверное, это было предопределено. Не мог же наследник Батыя, христианин, править монголами! Наша судьба — мусульманство. Но не будем вдаваться в тонкости. Я видела старца, стоящего в воздухе. На нём был багровый стихарь, цвета листьев смоковницы. Старец благословил меня православным благословением.
— Ты видела это во сне? — Голос Джанибека был нерешителен.
— Можно сказать и так. Хотя уже давно только сны — явь для меня.
— Ты хочешь сказать, что это был Алексий? — сомневался голос. — Или какой-нибудь другой христианский святой? Иса или Николай?
— Я помню Алексия. Я помогла ему перед поездкой в Царьград, выполнила всё, о чём он просил. Я верю, что теперь его очередь выполнить нашу просьбу.
— Ты говоришь столь твёрдо, что я не могу отказать. Хотя очень не хочется обращаться к ничтожному Ивану.
— Придётся, — непреклонно сказала Тайдула. — Хотя перед величием мелик-хана ничтожны все.
Она в самом деле ослабела. Она опустилась до лести собственному мужу. Джанибеку стало жалко её.
— Я немедленно напишу в Москву. — Он поднялся, ожидая слов признательности.
Тайдула молчала.
2
Иван принял грамоту из рук Акинфа, впился в неё глазами. Никогда ещё князья русские не получали личных посланий из Сарая. Обычно приезжали гонцы с изустными приказаниями. Значит, дело необычное. Послание — уже честь. Хотя было оно кратким, почти небрежным: «Слышали мы, что есть у вас поп, которому Бог даёт всё по молитве его. Пустите к нам сего служителя Божия, да испросит он здравие моей супруге». Иван ощерился набок, куснул усы нижними зубами.
— Гонец в нетерпении и ждёт скорейшего ответа, — напомнил Акинф.
— Скажи, мы тоже в нетерпении понять, о каком попе пишет хан. Может, о тебе?
— Дивлюсь недогадливости твоей, Иван Иванович. Знамо, что о святителе Алексии речь.
— Простодушен ты, батюшка, до старости, аки дитя. Уж так привыкли к унижению, что и замечать перестали.
Акинф развёл руками:
— От кротости нашей, Иван Иванович.
— От слабости и безысходности, — с досадой поправил князь. — Ладно. Зови владыку.
Стыдно было и подавать митрополиту такое письмо. Но Алексий пробежал его, и в лице ничего не изменилось. Поднял ожидающие глаза: