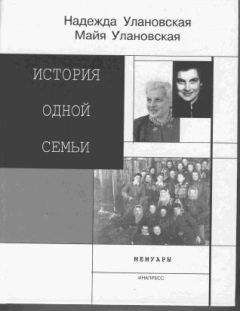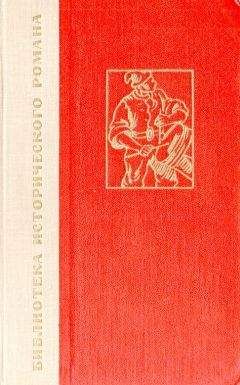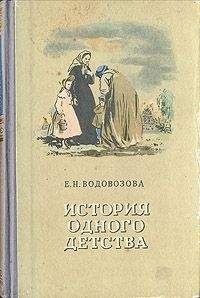Эркман-Шатриан - История одного крестьянина. Том 1
— Ты жизни не пожалеешь ради соседа Жана! Под удар себя подставишь, только бы сохранить для него краденое, если только тебя не вздернут на виселице заодно с теткой Катриной и их дружком Шовелем. Ты готов отречься от веры и нести проклятие ради этих злодеев.
— Ну, ну, не кричи так громко, — кротко увещевал ее отец.
Но она кричала еще громче. И было ясно, что она повторяет слово в слово речи отца Бенедикта.
Ко всему этому не было у меня покоя и в кузнице: Валентин не осмеливался открыто проявлять радость при хозяине Жане, зато мне прожужжал все уши:
— Наши сеньоры отплатили за Бастилию. Все это должно было свершиться рано или поздно, ибо право есть право. И тех, кто происходит от наших сеньоров, не должно смешивать с чернью, подобной нам. Попомни, Мишель, Национальному собранию скоро будет крышка. Его королевское величество все уничтожит, и всяк понесет наказание за свои преступления. Ну, а хозяин Жан напрасно старается — в долг поит Кристофа Маглуара и Пьера Турнашона. Когда явится армия его величества, всё заберут у него начисто. Все угодья будут возвращены нашей святой церкви. И люди виновные понесут кару и лишатся всего. Дай-то бог, чтобы нам дали своим ремеслом заниматься, ибо прегрешения наши велики — ведь мы довершили беззакония. Дай-то бог, чтобы они закрыли глаза на прошлое: ведь голосованиями да выборами все мы заслужили веревку.
Так рассуждал этот остолоп. И не будь он так глуп, мы бы уже давно с ним схватились, и наверняка не раз. Но я выслушивал его разглагольствования, как слушаешь рев осла, — не отвечая.
То же происходило во всех домах, во всех селениях. Если бы Буйе мог устроить второе побоище в Париже, то революция, пожалуй, и погибла бы — столько людей ее боялись, столько попов ее оговаривали.
Но вы увидите, что, хоть мы и пали духом, патриоты в Париже не так-то легко впадали в уныние, и у них достало мужества не только давать отпор двору, но и подкупленным членам Национального собрания.
Дядюшка Жан велел мне описать Шовелю все, что произошло на наших глазах в Нанси. Ну, а так как письмо я, как всегда, уже писал, то сделать это было мне нетрудно, По вечерам после работы я шел в библиотеку, отданную мне на попечение Маргаритой. Там, в полном одиночестве, при свете крохотной лампы, я описывал все по порядку, когда же оставалось время, принимался за чтение — читал часа два-три, а потом, мечтая, шел по деревне, погруженной в тишину, разглядывал наши Лачуги, и множество мыслей теснилось у меня в голове. Я раздумывал о жизни, о людях, о глубочайших познаниях одних и невежестве других.
С отрадным чувством читал я Энциклопедию, ничего не пропуская: по-моему, все статьи были превосходны, а особенно — статьи Дидро. Я прозрел, и все меня изумляло и умиляло, начиная от ничтожной былинки и кончая звездами. Хотелось мне научиться и считать, но самому осилить это не удалось, а учителя не было, чтобы преподать мне начатки знаний. Я думал о Маргарите, думал и об отце — то с тоскливым, то с отрадным чувством. Размышлял я также об ожесточенных сражениях и о том, что истинные представители народа борются за права народа. Это возвышало мой дух, и часто я возвращался домой поздно — после полуночи, не соскучившись ни на минуту.
Так я и жил! По воскресеньям я отправлялся в библиотеку Шовеля не вечером, а с семи часов утра. Лучшей жизни я и не желал, особенно после горького своего детства, неудержимого желания учиться, в те дни, когда у меня не было ни секунды времени — ведь все свое время я отдавал хозяину. А теперь я был счастлив.
Когда в первых числах сентября дядюшка Жан поручил мне описать горестные события в Нанси, я уже почти закончил письмо, и на последних страницах поведал об этой прискорбной истории. Итак, в тот вечер — я поставил точку в одиннадцатом часу — я был доволен, рассказав обо всем, что видел собственными глазами. И, отворив окно, я отдался мечтам. Ночь была теплая, светлая. Я смотрел на тенистый садик, на заходящую луну и заметил, что яблоки — крупные ранеты уже созрели, и подумал о том, с каким удовольствием Маргарита и ее отец посмотрели бы на красивые сочные плоды и отведали бы их! И я решил: «А вот и отведают! Сорву самые отборные, положу в листья на дно прочной корзины — одно на другое, рядами, да и отправлю в Париж с возчиком Жаном Мером. Добирается он туда за две недели, а яблоки и подольше двух недель сохраняются».
И так мне понравилась эта мысль, что я всю ночь обдумывал свою затею, лежа в нашей лачуге. На следующий день, придя к крестному прочесть свое письмо, я поделился с ним своим замыслом.
— Здорово ты придумал, Мишель, честное слово! Лучшее на свете удовольствие — посылка из дому, когда ты в чужом краю. Помню, во время похода по Франции в тысяча семьсот шестидесятом году встретил я возле Мезьера старого товарища — эльзасца, Христиана Вебера. У него в котомке припасена была копченая и кровяная колбаса. В жизни я не едал ничего вкуснее, чем в тот день. Мне почудился запах ели, померещились наши горы. И если б не товарищи, которые смеялись и пели на веселой пирушке, я бы заплакал от умиления. Вот потому-то завтра, в воскресенье, ты сорвешь отборнейшие яблоки в саду Шовеля: смотри только привяжи мешок к поясу, тогда и влезай на дерево, потому как упавший плод долго не сохранишь. Еще положим в корзину — выберешь ее у своего отца покрепче и повместительнее — копченую свиную щеку, это, можно сказать, отменнейший кусочек свинины, да пять-шесть колбас повкуснее, две бутылочки эльзасского вина да две красного лотарингского — наилучших из моего погреба. И еще не забыть бы несколько горстей крупных свежих орехов, до них Шовель большой охотник. Помнишь, он все колол их у камелька, в кармане приносил. Все это мы уложим, только выбери корзину побольше да покрепче.
И Жан Леру, которому понравилась моя затея, все восклицал:
— Большего удовольствия им и не доставишь!
Я был с ним согласен и, видя, что он одобряет меня, обрадовался еще больше.
Никогда, кажется, я не был так счастлив, как в то воскресенье, когда ранним утром среди груды корзин, которые отец складывал, как шляпы, ровными рядами за лестницей, выбрал плетушку, что носят на ремне за спиной, и, повесив ее на плечо, отнес в харчевню «Три голубя», а потом — когда я влез на яблоню, и, раздвигая ветви, срывал отборнейшие яблоки и осторожно опускал их в мешок. Нет, никогда не было так отрадно у меня на душе; я смотрел на чудесные плоды и словно видел, как Маргарита впивается белоснежными зубками в их мякоть.
Затем я зашел за харчевню и стал сбивать орехи с большого дерева — под ударами дубинки они посыпались градом, и я подумал: «Папаша Шовель будет доволен! Уж он потешится!» И я будто увидел, как он щелкает орехи и наверняка думает:
«А Мишель, право, славный малый».
Это меня умиляло, и я твердил про себя:
«Да, папаша Шовель, я, право, славный малый и люблю вас. Знайте: я жизнь за вас отдам. А Маргарите вовек не найти человека, который так бы ее полюбил и сделал такой счастливой. Нет, не найти!»
Так я раздумывал со слезами на глазах. Я не буду описывать, как мы укладывали припасы в корзину, потому что все сделали по указке дядюшки Жана. Свиную щеку и колбасы уложили на самое дно, яблоки, переложенные сеном, посредине, сверху — орехи в зеленой кожуре, чтобы сохранились свежими, а уж на самом верху — бутылки с вином, потом еще слой соломы. Корзину мы завернули в холст и крепко-накрепко зашили толстыми нитками, а на карточке написали адрес: «Г-ну Шовелю, депутату Национального собрания, Париж, ул. Булуа, № 11».
Все мы — дядюшка Жан, тетушка Катрина, Николь и я — собрались в большой горнице и уложили все там в корзину.
Прослышав, что мы посылаем Шовелю съестное, многие патриоты просили положить в корзину гостинцы и от них: копченое сало, соты, кое-кто — отборные плоды или бутылочку киршвассера. Мы их благодарили, но, к сожалению, это было невозможно: корзина и без того оказалась претяжелой, весила, пожалуй, фунтов сто пятьдесят; но все равно, силач возчик Жан Мер, перевозивший тысячи фунтов на своей вместительной телеге, которую тянула шестерка лошадей, взял посылку. Он прикрыл ее брезентом и отправился в путь вечером в понедельник.
С того дня мы стали поджидать вестей из Парижа, но письмо пришло только в конце сентября. А за это время у нас в «Трех голубях» люди, собираясь, вели немало споров.
Вот тогда-то впервые и была получена в Лачугах Красная книга[118], напечатанная по повелению Национального собрания. Старик Риго, получавший небольшое наследство в городе Туль, привез ее оттуда; все вечера мы читали ее, кричали и негодовали. Из нее мы узнали, что не только офицеры и дворяне грабили солдат, но что всех нас долгое время обирали важные сеньоры, называвшиеся царедворцами, что они обирали нас без стыда и совести. Вот как свершалась самая большая кража: когда из-за дефицита королевским министрам приходилось делать новый заем, их друзья, так же как и друзья графа д’Артуа, королевы, принцев, и всякие их приспешники якобы давали некую сумму государству и получали на эту сумму квитанцию, называвшуюся купоном, — каждый получал соразмерно своей подлости, не затрачивая ни единого лиарда. А нам, многострадальным, приходилось выплачивать новые налоги и платить вечные проценты ворам, которые ничего не одалживали народу. Да разве можно счесть, сколько денег они переманили у нас таким способом!