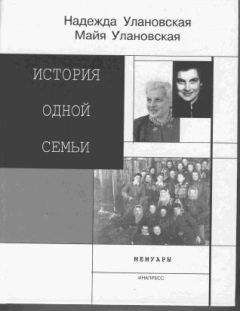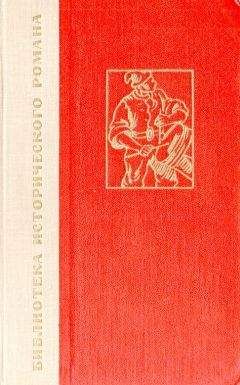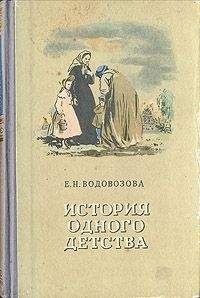Эркман-Шатриан - История одного крестьянина. Том 1
Все это надрывало душу, и я стал раскаиваться, что пришел, и собрался было возвратиться, как вдруг среди солдат, окруживших телеги, я заметил верзилу Жерома из деревни Четырех Ветров. У него на лице виднелся шрам; он все еще был квартирмейстером. Он чему-то смеялся, куря трубку. Его-то я хорошо знал и не стал расспрашивать, а обратился к другим солдатам Королевского немецкого полка с вопросом, где находится бригадир Бастьен. Мне тотчас же указали на окно харчевни, стоявшей напротив. И я вмиг узнал Никола, несмотря на его мундир. Он тоже курил трубку и глядел в окно на душераздирающую картину. Я перешел улицу, все же довольный предстоящей встречей с братом. Тут разум бессилен, и это естественно. Впрочем, я сознавал, что мы никогда с ним не сойдемся.
И вот, встав под окном, я окликнул его:
— Никола!
Он стремглав сбежал вниз, крича:
— Это ты?.. Вы, значит, тоже пришли из Пфальцбурга! В добрый час… вот здорово!
Он смотрел на меня, и я видел, что всей душой он рад мне. Мы поднялись по лестнице рука об руку, очутившись наверху, распахнули дверь в большую горницу, где сидели за столом, собираясь выпить, пять-шесть солдат из Королевского немецкого полка, а еще трое-четверо смотрели в окно. Никола, сияя от радости, крикнул:
— Эй, вы! Взгляните-ка на этого молодца! Это мой брат. Ну и плечищи!
Он пытался сдвинуть меня с места, обхватив обеими руками, и все хохотали. Я, разумеется, был доволен. Все эти солдаты Королевского немецкого полка, чьи сабли и медвежьи шапки висели на стене, с виду производили впечатление славных ребят. Они уговорили меня выпить стакан вина. Никола все твердил:
— Вот если б вы попали сюда вчера!.. Надо было вчера прийти к пяти часам — увидели бы потеху… Ну и порубили же мы их!
Он сказал мне на ухо, что квартирмейстер их отряда убит, а капитан Мендель никого не хочет на его место, кроме бригадира Бастьена, так безупречно его поведение.
Представьте же себе, с каким отвращением я слушал его после всех невероятных зверств, очевидцем которых мне довелось только что быть, но возражать при чужих я не мог и делал вид, что всем доволен.
Немного погодя раздался трубный сигнал к чистке лошадей. Все встали, нацепили сабли, надели шапки и собрались уходить. Никола тоже хотел спуститься вниз, но один из его приятелей уговорил его остаться, обещав предупредить офицера и выполнить его обязанности. Никола снова сел. Все ушли, и только тут он вспомнил о родителях:
— Ну, а как старики? Здоровы ли?
Я ответил, что дома все здоровы — отец, мать, Матюрина, Клод и малыш Этьен, что я зарабатываю теперь тридцать ливров в месяц и не позволю, чтобы они терпели в чем-нибудь нужду. Он очень обрадовался и, пожимая мне руку, говорил:
— Хороший ты парень, Мишель! Нельзя, чтобы бедные старики терпели в чем-нибудь нужду. Я бы уже давно проведал их, да, уже давно, но как вспомню бобы и чечевицу, грязную нору, где мы сносили столько невзгод, так сразу и передумаю. Солдат Королевского немецкого полка должен блюсти свое достоинство. Ты зарабатываешь побольше моего, это верно. Зато я ношу саблю на боку. И служу королю — ведь это дело иное!.. Себя нужно уважать. А у нас такие старики — в рваных платьях и штанах ходят… Понимаешь ли, зазорно это для бригадира.
— Да, да, понимаю… — отвечал я. — Но теперь они уже не такие оборванцы. Я выплатил весь долг Робену, отцу не приходится больше отбывать барщину. У матери две дойные козы, есть масло, водятся куры-несушки. Матюрина поденно работает у крестного Жана; она очень бережлива. А малыш Этьен научился грамоте, я сам занимаюсь с ним по вечерам. Наша лачуга тоже стала показистее: крышу покрыли соломой, дыры заделали, а стремянку заменили деревянной лестницей. Пол наверху настелили новый. Вместо ящиков с листьями папоротника теперь у нас две кровати да четыре пары простынь. Стекольщик Регаль приходил к нам из Пфальцбурга и вставил в рамы стекла, которых не хватало уже лет двадцать, а каменщик Кромер выложил две ступени на крыльце.
— Вот оно что, — произнес он, — ну, если теперь все так исправно и поесть найдется, то, пожалуй, приехать можно… непременно приеду повидать наших бедных стариков. Попрошу недельный отпуск — так и скажи им, Мишель.
У него было доброе сердце, но ни капли здравого смысла; он любовался своими эполетами, его прельщали удары саблей и пальба из пушек. Образование все шире распространяется среди народа, и теперь уже не встретишь таких ограниченных людей. К несчастью, в те времена они встречались нередко, из-за невежества, в котором нас держали сеньоры и монахи, заставляя работать и обирая нас.
Я заговорил о резне, он слушал, облокотившись о стол и куря трубку, но вдруг заорал, пуская большие клубы дыма:
— Э, да все это — политика! Вы — жители Лачуг, в политике ничего не смыслите!
— Какая же это политика? — возражал я. — Ведь бедняги из Швейцарского полка требовали свои деньги.
— Свои деньги? — Он пожал плечами. — Вот еще что! Разве Местрдеканский полк не получил, что ему причиталось?.. Разве община не дала по три луидора на человека в Королевском полку, чтобы заставить солдат вернуться в казармы перед битвой? Да эти швейцарцы были просто негодяи; они заодно с патриотами!.. Мы их здорово распотрошили еще и за то, что они стреляли в воздух, а не в мерзавцев-смутьянов, когда те брали Бастилию. Понятно, Мишель?
Я молчал, пораженный его словами. А он немного погодя добавил:
— Ну, да это только начало… Королю следует вернуть свои права… А всем этим болтунам из Национального собрания следует рты заткнуть. Не беспокойся, генерал Буйе что захочет — выполнит… Дня через четыре мы двинемся на Париж, и тогда берегитесь!.. берегитесь!
Он хохотал, ощерив зубы и топорща усы: что-то ухарское, что-то оголтелое появилось в его физиономии, и он напомнил мне зверя, который чует богатую добычу, и ему кажется, будто он уже захватил ее.
И я подумал с отвращением: «Неужели эта скотина — мой брат? Да стоит ли увещевать его, втолковывать ему здравые мысли? Все равно он ничего не поймет и вдобавок на меня разозлится». И я решил, что самое время уходить.
— Ну, мне пора, — сказал я, вставая. — Очень я рад был повидаться с тобой, Никола. В половине девятого наш отряд возвращается в Пфальцбург.
— Уходишь?
— Да, Никола. Давай обнимемся.
— А я — то думал, ты с нами позавтракаешь… Сейчас вернутся приятели… Деньги у меня есть: генерал Буйе велел выдать по двадцать ливров наградных на человека.
Он похлопал себя по карману.
— Никак нельзя!.. Служба прежде всего. Если я не отзовусь на перекличке, мне несдобровать.
Этот довод показался ему убедительнее всего. Я взял ружье, и мы с Никола спустились на улицу.
— Ну что ж, Мишель, — сказал он, — давай обнимемся.
Мы обнялись — оба были растроганы.
— Не забудь же сказать старикам, что на днях я получу чин квартирмейстера.
— Не забуду.
— И навещу их, в мундире с галунами.
— Ладно… Обо всем скажу.
По дороге я решил про себя так: «Чудак Никола — парень не злой, но из пристрастия к дисциплине искрошит тебя на куски».
Когда я подходил к воротам Сен-Никола, уже били сбор.
— Ну что, видел? — спросил Жан Леру.
— Видел, дядюшка Жан.
По выражению моего лица он разгадал мои мысли, и с той поры о Никола мы с ним больше не говорили.
Я едва успел сбегать в булочную напротив и купить трехфунтовый каравай хлеба и две вареные колбасы — ведь я только выпил у Новой заставы, — как наш отряд отправился в обратный путь, в Пфальцбург.
По дороге мы совсем приуныли: то и дело нам попадались негодяи, из тех, что всегда держат сторону сильных, трубят победу, расточая улыбки и поклоны господам положения, заводят разговоры о порядке, справедливости, преданности защитникам власти, готовности поддержать законы и прочее. А это должно означать: «Мы с вами заодно, ибо вы сильнее всех, но мы бы первые уничтожили вас, окажись вы всех слабее».
По дороге нам попадались такие прохвосты — подлые жирные лица, огромные животы, обмотанные трехцветным шарфом. Молодчики орали во все горло, надрываясь: «Да здравствует король! Да здравствует генерал Буйе! Да здравствует Королевский немецкий полк!»
В одной деревне вздумали было нас так приветствовать во главе с мэром, но наш командир Жерар, завидя этих господ еще издали, крикнул:
— Дайте дорогу, черт бы вас побрал! Дайте дорогу!
И мы прошли мимо них; они нас приветствовали, а мы смотрели на них с презрением, свысока. Досадно, что народ не всегда так обращался с негодяями! Они бы увидели, как люди относятся к их болтовне, и если им чуждо было самоуважение, то, по крайней мере, они бы уважали скорбь порядочных людей.
В Люневиле муниципальные власти держались с твердостью, но все же и там воцарилась тревога, когда мы пришли туда часа в два. Здешняя гражданская гвардия еще не вернулась, поэтому нас останавливали у каждого дома, расспрашивали о новостях, особенно женщины — ведь их сыновья и мужья еще были там. Мы с трудом продвигались вперед. На площади нас окружила толпа, и мы не знали, как всем отвечать. Вдруг кто-то из толпы крикнул: