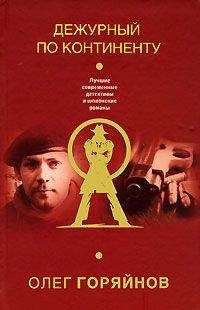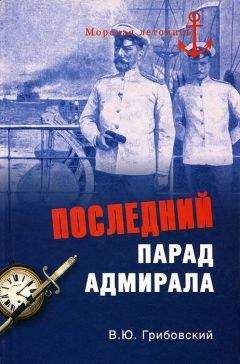Борис Горин-Горяйнов - Федор Волков
Счастливые, цельные люди! Они полны доверия к жизни, и их не страшит ее коварство. Они знают, что жизнь с ними заодно. Она не может расколоть их пополам. Они не колеблясь творят свое маленькое дело, убежденные в том, что это дело велико и полезно для жизни. Им не грезятся безбрежные просторы, они в маленьких тропках видят широкие пути. Что же ему мешает избрать для себя такую же тропку? Что препятствует обезопасить свой мирок от расползания в стороны, а свою душу от раздвоения? Что?
В дверь постучали, Федор не успел ответить, как в дверях показалась голова синьора Перезинотти.
— Вы один, маэстро? — слегка удивился он. — А синьора Елена? Она искала вас некоторое время тому назад. Я полагал, наше посещение театра немецкого временно будет отложено ввиду визита очаровательной синьоры.
— Нет, дорогой Перезинотти, оное посещение состоится даже вопреки визитации всех очаровательных синьор града Москвы. Я готов.
Немецкая комедиантка
Волков и Перезинотти, прихватив с собой Якова Шумского, отправились к Красным воротам в Немецкий театр.
Театр не внушал никакого доверия. Деревянное, малопоместительное, неуютное здание с плохим освещением.
У входа, по немецкому обычаю, висел печатный «цеттель»[77] на русском и немецком языках, — вместе и афиша и либретто, пересказывающее вкратце содержание представления.
В этот вечер на «цеттеле» значилось:
Комедия на итальянский манер с пением, танцами, переодеваниями и волшебными превращениями, с интермедиями и куплетами на российском диалекте:
LO SPIRITO FOLLETTO CANTANDO ODER:
DER VERLIEBTE POLTERGEIST[78],
a по-русски:
«Влюбленный домовой, или Женская неверность»
Главные роли исполняли: Фоллетто — фрау Керн, Панталона — герр Гильфердинг, Арлекина — герр Сколярий, Скапина — герр Керн.
Далее шло длиннейшее перечисление действующих персон, интермедий, переодеваний, перемен декораций и т. п.
Афиша в общем была довольно заманчивая, хорошо и толково составленная, с интригующими сентенциями и нравоучениями.
Только в одной роли Фоллетто обещалось до тридцати переодеваний: индейцем, испанской цыганкой, итальянским лаццарони, русским мальчишкой, немецкой фрейлейн, венецианским гондольером, русской крестьянкой, французской мамзелью, валдайской девушкой, немецким чортом и т. д.
— Давно чертей не видал, — сознался Шумский. — Может, русского покажут? Немецкий чорт противу нашего в подметки не годится. Эх, в Ярославле у нас по части чертей было раздолье! Отец Иринарх зело их обожал. Помнишь, Федор Григорьевич? Черти получались, что твой шоколад.
Приятели уплатили в кассе и заняли отдельную ложу неподалеку от сцены.
Играл жиденький оркестрик. На занавесе были намалеваны летящие толстомордые амуры и хоровод упитанных, полураздетых девиц явно немецкого происхождения — с оранжевыми грудями и икрами. Амуры целились в девиц стрелами из луков, похожих на перерезанные обручи от бочки. Девицы, запрокинув головы и полуоткрыв рты, как бы готовились поймать ими стрелы.
Перезинотти, увидя эту живопись, даже раскрыл рот.
— «Аль-фреско», — подмигнул ему Волков.
Итальянец таинственно поднял палец:
— В обществе сие художество назвать неприлично.
— Художество не плоше всякого другого, — умилился Шумский. — А вон и чортик, гляньте, в кустах. Милый чортик! Как ты похож на моего друга Иконникова! И даже с образком в руках. Эх, не прихватили Иконникова!
Действительно, из кустов подглядывал за девицами яркорыжий фавн с цевницею в руках, которую при желании можно было принять и за небольшую иконку.
Публики набралось уже достаточно. Преобладали русские поддевки и бородатые физиономии. В полутемном райке копошились какие-то головы, однако деталей нельзя было рассмотреть. Оттуда несся нестройный гомон, смех, взвизгивания, щелканье орехов. Орехи щелкали и на скамьях партера. Часто хлопали откупориваемые бутылки с кислыми щами[79], разносимыми в корзинках какими-то кучерявыми молодцами. Часто из райка и галдарей второго яруса на голову сидящих внизу сыпался целый дождь подсолнуховой шелухи.
— Конфетти, — сказал Перезинотти. — В Италии для сей цели употребляются мелкие разноцветные бумажки.
— Бумажки не вкусно жевать, — изрек Шумский.
Заиграла веселая музыка. Представление началось интермедией в публике, при опущенном занавесе. Неожиданно у самого входа в партер начался шумный скандал. Панталон гнался по театру за своей женой Коломбиной, уверяя, что эта ветреница только что целовалась на глазах почтеннейшей публики с бездельником Арлекином. Арлекин с Коломбиной метались по всему театру, выкрикивая задорные реплики, прятались за зрителей, прыгали и кувыркались. Панталон гнался за ними с толстой палкой. Когда он, наконец, настиг их около оркестра и поднял палку, чтобы пустить ее в дело, двое влюбленных, пробежав буквально по плечам музыкантов, очутились на просцениуме, у самого занавеса.
Публика захохотала, захлопала в ладоши. Пока неуклюжий Панталон пытался пробраться к ним на авансцену, парочка уже успела спеть весьма двусмысленный дуэт на немецко-русско-итальянском языке.
В основном говорили по-русски, отчаянно и забавно коверкая язык, что считалось обязательным и вошло в традицию.
Панталон, наконец, очутился на подмостках. Началась забавная беготня, взвизгивание, прыжки друг через друга, курбеты и самые невероятные дурачества. Когда Панталон выбился из сил, потеряв надежду использовать свою палку, он в отчаянии закричал:
— Провалитесь вы в преисподнюю!
— За компанию! — ответил Арлекин.
Действительно, все трое неожиданно провалились.
Публика была в восторге. Она уже надежно зарядилась на целый вечер.
Под мрачно-торжественную музыку занавес начал подниматься: толстобедрые девицы сложились вдвое и улетели куда-то вверх вместе с амурами. Зрители увидели подземное царство Плутона. Повелитель преисподней восседал на троне, сделанном из костей, окруженный сонмищем приличных, европейски-галантных чертей. В сторонке жалась группа грешных душ, ожидавших решения своей участи.
Здесь торжественный стихотворный текст читался по-немецки, за исключением ругательных слов. Эти последние произносились сочно и смачно по-русски. Такие перлы, как «свинья», «осел», «негодяй», «скотина», «потаскушка», плавали как жирные галушки в жиденьком гороховом супе. Забавно исковерканные русские прибаутки и присказки довершали очарование такой речи.
Публика хохотала с визгом, внося свои добавления едва ли не громче комедиантов.
Следя за бесхитростно смеющейся публикой, за невероятными глупостями и дурачествами комедиантов, Федор Волков и его приятели почувствовали себя по-особенному непринужденно.
В зале создалась атмосфера, которой Волкову ни разу не доводилось наблюдать на чинных и скучных придворных спектаклях. Если откинуть излишние глупости и пересолы «дурацких персон», до которых Федор был небольшой охотник, ему многое нравилось в этом театре. Чувствовалось что-то такое, чего он не наблюдал со времен Ярославля.
Шумский находил мало искусства в кривляниях заграничных чертей.
— Одна грация и ничего смешного, — недовольно ворчал он.
Главную роль Фоллетто, получающего от Плутона волшебную палочку для производства разных чудес и превращений, играла женщина. Актриса была стройна, грациозна и, повидимому, красива, — за чрезвычайно ярким гримом этого нельзя было рассмотреть. Федор Волков совсем не собирался следить за тонкостями игры актеров. Он на этот раз предпочитал глупости и дурачества всему другому и только на них обращал внимание.
Когда красавец Фоллетто несколько раз прошел по сцене и бросил несколько незначительных реплик, на Волкова повеяло чем-то подкупающе-знакомым. Он это отнес к наигранному тону сценически даровитой актрисы.
Но когда она начала сказывать большой монолог, Федор с невольным напряжением весь обратился в слух.
Вдруг Шумский крепко схватил его за руку и привскочил со своего места.
— Да ведь это Татьяна Михайловна! — громко вырвалось у него.
У Федора до боли сжалось сердце. Он широко раскрыл глаза и уже не отрывал их от затянутой в мужской костюм стройной фигуры. Не вдумывался в произносимые актрисою слова, но узнавал и жадно ловил знакомые интонации.
Сомнений быть не могло. Он видел помещика Майкова племянницу — Татьяну Михайловну Мусину-Пушкину.
Итак, Таня, его Таня — немецкая актриса и по афише — фрау Керн. А вон стоит и Скапин — герр Керн, по всей вероятности, ее супруг.
На сцене следовали, одна за другою, моментальные перемены декораций, производились различные превращения, кувыркались и прыгали «дурацкие персоны», танцовали какие-то полуобнаженные девицы, очень похожие на изображенных на занавесе.