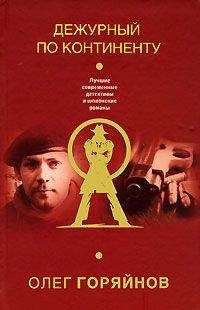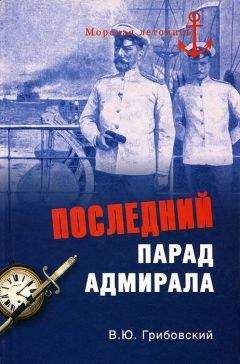Борис Горин-Горяйнов - Федор Волков
— Не позднее двенадцатого века, — сказал, закатывая глаза, Перезинотти.
— Не позднее! Не угодно ли? Значит, опоздай она появиться на пару годов — и цена уже ей не та в глазах сего сумасбродного синьора. Естеству противно!
— Где вы откопали подобную прелесть, синьор? — спросил Федор.
— Далеко. Как это? Закраина… конец Москве. Дальше пусто, ничего нет…
— Край света, — пробурчал Рамбур.
— Все заборы, заборы и маленькая Chapele…[75] церковушка.
— Как называется церковка? — спросил Федор.
— Сан-Джорджино… Святой Георгий… но… но… вот запамятовал, на чем…
— На Пупырышках… — подсказал Рамбур.
— Нет, нет синьор. На чем-то другом Aspetti…[76] Не могу припомнить… Ничего, завтра я поведу вас туда, и вы сами будете иметь честь видеть оный шедевр.
— Что изображает фреска? — спросил Волков.
— Потайный… потайную… Как по-русски вечерняя закуска одним словом называется?
— Кутежка, — сказал Рамбур.
— Вечеря, — произнес, улыбаясь, Волков.
— Припомнил, синьоры: «Тайная вечеря»!
— И порядочно приготовлена? — спросил насмешливо Рамбур, возясь у стола:
— Отменно, — ответил Перезинотти, понявший по-своему.
— Так вот, пожалуйте к столу, — сказал маёр, — сравните с моей явной закуской, ей же от роду не более двенадцати минут.
За обедом Рамбур спросил Волкова:
— Вы, сударь, полагаю, явились ко мне от особы не столь древней?
— Да нет, моя как будто помоложе, — засмеялся Федор.
— То-то. Вот вас на антики тянет, а молоденькие о вас беспокоятся.
— Кому ж бы это?
— Не разглядел хорошенько, — хитро прищурился Рамбур. — В окошечко кареты только показались… О здоровья вашем справились… Не случилось ли, де, с вами чего. По виду много-много моложе пассии Перезинотти. Можно сказать, совсем недавней работы… Догадываетесь о сей «фреске»?
— Догадываюсь, — сказал Волков и нахмурился.
— А я так и не догадался. Не мастер «штили» разбирать.
Некоторое время насыщались молча. Перезинотти рассеянно купал свои манжеты в тарелке. Рамбур насмешливо заметил.
— Синьор художник, в суп положено достаточно всего, что оный требует. Разумеется, перцем, солью, табаком с манжет каждый заправляет по своему вкусу. Не стесняйтесь, пожалуйста.
Итальянец долго и с удивлением рассматривал свои промокшие кружевные манжеты, недоумевая, как это могло случиться.
— Фреска — ведь сие живопись по мокрому? — серьезно спросил Рамбур. — Следственно, противу штиля погрешностей нет. Исключая того, что во времена отдаленные кружева не нашивались в самых неудобных местах. Кушайте, пожалуйста. Ваша прачка исправит сию несуразность нашего века.
— По счастью, я табак нюхаю умеренно, — сказал художник, подкручивая свои манжеты.
— Ну, значит и вкус будет уже не тот. Вы берите пример с бригадира Сумарокова. Да, — спохватился маёр, — вами, Федор Григорьевич, и еще кое-кто интересовался.
— Кто еще? — спросил Федор, опуская ложку.
— Кушайте, пожалуйста, подсучив ваши манжеты. Шпильманы немецкие по делу заходили. Костюмы кое-какие для их театра просили одолжить. Ведь вам ведомо — театр у них в Басманной имеется? Так вот оттуда. Известные вам Гильфердинг и Сколярий. Кланяться очень наказывали. Пеняли на забывчивость вашу. Просили навестить их на досуге.
— Кругом виноват! Действительно, неблагодарно с моей стороны. Много они мне во время оно доброго оказали. Да что поделаешь, когда выбраться никак не удается.
— Понимаю, — кивнул головой Рамбур. — «Фрески-трески» времени много отнимают. Москва велика, а они на каждом шагу понатыканы. Иную платочком потереть достаточно, чтобы до первоначального штиля добраться, а иную и облизать потребно основательно. Дело хлопотное.
— Журите во-всю. Заслужил и не оправдываюсь. А немцы — славные. Ноне же навещу их. Все брошу. Решено! Ну, что они рассказывали? Как поживают?
— По-немецки. Наизнанку с быстротой ярмарочного вора выворачиваются. Им ведь коровушка дойная, казна российская, доиться не дает. Каждый грош надо умеючи у публики из кармана вытянуть. Много у нас тут немецкую речь разумеющих? Вы, я, синьор Перезинотти — и обчелся.
— Я? Немецкую речь? — удивился итальянец. — Ни единого слова не смыслю. Или нет, знаю одно слово: муштабель.
— Как раз вдвое больше моего: я и про муштабель не знаю, — ворчал Рамбур. — Это, кажется, то, чем краски ковыряют? Знать буду и при первом же случае покажу свои знания.
— Каким образом? — захохотал Перезинотти.
— А самым простым. Подойду к какой-нибудь «фреске», уже очень не в меру размалеванной, и посоветую: «Сударыня, вам бы муштабелем воспользоваться. Пласты неравномерно наложены. Штиль века не ясен».
Волков и Перезинотти весело хохотали. Маёр Рамбур, несмотря на все изрекаемые глупости, ни разу не улыбнулся.
— Надо поддержать товарищей, — заявил Волков. — Сегодня отправимся целой компанией в театр немецкий.
— По знакомству. Безденежно. Я знаю ваше доброе сердце, сударь, — издевался Рамбур.
— Ну, это была бы неважная поддержка. Билеты на всех купим. Вы, я, синьор Перезинотти… еще кого прихватим из товарищей. Ведь так, синьор?
Перезинотти кивнул головой.
— Билет на мою долю возьмите обязательно. Даже два. Вот вам и деньги. Только в театр мне идти неохота. Свой надоел, — отговаривался Рамбур.
— Так это же немецкий, — сказал Перезинотти.
— А хоть бы китайский. Мне все едино. Да он и не немецкий, а только полунемецкий. Шпильманы сознались, что для завлечения публики они все ругательства выговаривают по-русски. А ругательных мест в любой пьесе, как вам известно, ровно две трети. Нет, идите уж без меня, а на мои кресла шляпы свои разложите. У них ушей нет.
— Новость, Степан Степанович! — удивился Волков. — Ругаются по-русски? Как же это так?
— Полагаю, так же, как и у нас в обжорном ряду. Только с тюрингенским произношением.
— Странно как-то! Немцы — и вдруг… — недоумевал Федор.
— Ничего странного нет. Нужда — великий учитель. Брюхо подведет — и по-эфиопски заругаешься. Хоть бы и вам случилось. Синьор Перезинотти, вы по-русски ругаться научились?
— Научился, синьор, — вздохнул итальянец.
— А как, к примеру?
— Всячески, синьор. И чортом, и ведьмой, и лешим. И это… ну, из чего ветчину приготовляют…
— Ясно. Ну, а еще?
— Еще? Извините, не могу припомнить, синьор.
— Значит, вы еще настоящей нужды не нюхали. А то сразу бы все припомнили. И в словарь заглядывать не потребовалось бы.
Пообедав, начали собираться в театр.
— Так вы не желаете, Степан Степанович? — спросил Волков.
— Не желаю.
— Значит, мы с вами пока вдвоем, синьор Перезинотти.
— О, я куда угодно, — заявил итальянец.
— Этот хоть за Пупырышки, — проворчал Рамбур.
Вернувшись от Рамбура к себе, Федор погрузился в глубокое раздумье. Случайное напоминание о немецких шпильманах вызвало в нем живую волну воспоминаний о прошлом, — таком еще недалеком, что до него, казалось бы, рукой дотянуться можно, но уже безвозвратно провалившемся в пустоту. Припомнился первый детский трепет перед чарами искусства, перед неизъяснимой его тайной, казавшейся такой всеобъемлющей неискушенному юному уму. Ведь тогда вся жизнь его обволакивалась одним чувством — готовностью служить до конца дней этому чему-то неизъяснимому, но такому властно притягательному. Служить самоотверженно, не требуя никаких иных радостей. Это неизъяснимое он привез с собою в милый Ярославль. Оно витало в убогих стенах кожевенного сарая, с ним было неразрывно слито то, другое, что случается только однажды в жизни… Его отражение еще трепетало на стенах интендантского склада, собственноручно приспособленного для служения этому неизъяснимому. Где все это? Куда отлетели и трепет восторга, и ощущение сладкой тени, и гармония полноты жизни, переполнявшая душу? Почему человеку не дано произвольно длить то, что он считает для себя самым важным, самым ценным в этом мире? А может быть, он один такой неудачник, человек без почвы, без чувства понимания гармонии? Человек, которому суждено весь век ловить что-то призрачное, неуловимое и никогда не поймать его? Ведь есть же натуры, никогда не сомневающиеся в своем призвании, не замечающие никаких препятствий на своем пути, для которых все сливается в одном, раз и навсегда ими избранном. Яркий пример — художник Перезинотти. Он всегда детски восторжен, законченно гармоничен, видит мир в тех красках, в каких ему желательно, вкладывает во все то содержание, какое находит нужным. Он сам творит свой мир по образу и подобию своей души. Сомнения ему чужды, колебания неведомы, вера в свое дело непоколебима. А маёр Рамбур сомневается в своем назначении? Нет. Он поставил себе задачей — быть ломовой силой громоздкого театрального аппарата и не променять своего положения ни на какое фельдмаршальство. Прикрывшись щитом иронии, как кулисой, он двигает тяжелые колесницы «муз», никем не видимый и не замечаемый. Двигает уже много лет, без раздумий и колебаний, и будет двигать до тех пор, пока не падет под тяжестью годов.