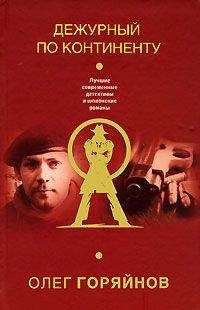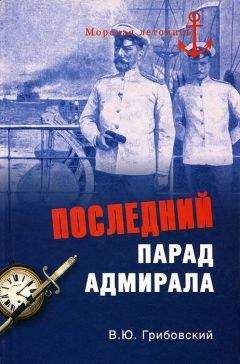Борис Горин-Горяйнов - Федор Волков

Обзор книги Борис Горин-Горяйнов - Федор Волков
Борис Анатольевич Горин-Горяйнов
Федор Волков
Часть первая
ЯРОСЛАВЛЬ
Первые вести
Книга живота, сиречь Ежедневник, студиозуса Ярославской Славяно-латинской академии Нарыкова Ивана, Дьяконова тож, Дмитревского тож. Зачата сия для ради занесения в оную встречных событий жизни моея, також мыслей достохвальных, изреченных устами мудрых, наипаче ж для собирания и хранения диамантов Словесности российской, и протчего, поелику оное сохранено памятию быть достойно.
Майя… дня 1749 года…
Старательно выведя титульный лист, юноша улыбнулся, отложил гусиное перо в сторону и, прищурясь, полюбовался своей работой на расстоянии.
Это — объемистая самодельная тетрадь из синеватой шершавой бумаги, заключенная в синюю сахарную обложку. Что-то вспомнив, взял снова перо, приписал:
«А лет ему, Нарыкову-Дмитревскому Ивану от зачала дней его семнадцать и три месяца».
И, еще подумав, покрупнее:
«От ока праздно-любопытного — потаенно».
Юноша доволен и счастливо улыбается. Он очень красив, румян переливающимся румянцем молодости, сильно курчеват и длинноволос, смахивает на девушку с подрезанными косами. Серые, по-детски широко открытые глаза все время лучатся набегающими задорными искорками. Часто и непроизвольно краснеет, даже будучи наедине сам с собой. Довольно непоседлив, беспрерывно вертится на стуле. Без надобности вскакивает, подбегает к окну, пересвистывается с птичками. Ерошит волосы, по-семинарски заброшенные назад. Шелковисто-непокорные, они при малейшем наклоне головы падают мягкими прядями на лоб и глаза, мешая заниматься. Обычно, устав бороться с ними, он разыскивает старую лиловую камилавку отца и нахлобучивает ее на лоб. Он и сейчас в камилавке, только что с трудом отысканной за рундуком, в расстегнутой у ворота китайчатой рубашке горошинками.
В комнате душно и жарко, хотя все три оконца, выходящие в сад, открыты настежь. Они невелики, квадратные рамы, подпертые рычажками, поднимаются кверху. Из сада пахнет цветущей сиренью и жасмином, доносится неумолчный птичий гомон. Откуда-то издалека слышен высокий женский голос:
— Цып-цып-цып, цыпыньки-цыпыньки!..
Ваня подскакивает к окну, заливается еще выше:
— Цып-цып-цып, цыпыньки-цыпыньки!..
И смеется неизвестно чему.
Сзади, за спиной — долгое зловещее шипение, как будто вся комната наполнилась змеями. Раздается голос кукушки: «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» — три раза, и три глухих удара без звона, в пустоту, — пружина не в порядке.
Часы огромные, неуклюжие, стоят в углу, они очень похожи на гроб. В стеклышко видно, как угрожающе движется маятник в форме двуострой секиры: «Я — вас!.. Я — вас!..»
По грязно-красному полю опущены какие-то золотые зигзаги и стрелки. Когда Ваня был поменьше, он очень их боялся. Братишка Николка, которому уже девять лет, и теперь боится по вечерам входить в комнату, — а вдруг оттуда мертвец!
Юноша аккуратно собрал разбросанные по столу книги, тетради, гусиные перья. Приподнял тяжелую крышку желтого рундука, уложил туда свое имущество.
Взяв бурсацкое нанковое полукафтанье, Ваня оглядел его и надел нараспашку. Пошел к двери:
— Скоро не ждите!
— Ништо! Да скуфью-то сними! — засмеялась мать. — Не заслужил ты пека.
— Лови!
Ваня ловко подбросил камилавку прямо на голову матери.
Жарко и душно не по-вешнему.
Дом у протопопа присадистый, низенький и раздутый вширь, как перекисший, непропеченный каравай. Окрашен в цвет, именуемый у богомазов при посторонних — иерусалимским желтым, а промежду себя — желто-дермяным. Все окна по фасаду наглухо закрыты ставнями, ставни опоясаны железными полосами с болтами, пропущенными внутрь. На каждой створке — прорезные сердечки. Где надо и где не надо намалеваны яркокрасные «пукеты» в зеленых горшочках. Над крылечком — икона зимнего Николы, в рукавичках. Парадная дверь замшела, между половицами крылечка пробивается веселая свежая травка. Дверь не открывалась с николкиных крестин, — ходят в калитку.
На улице ни души. Ставни закрыты как есть у всех соседей, коньки у домишек скособочились, слуховые окна заткнуты тряпками и куделью. Неровный порядок домов напоминает вереницу слепых и больных старцев.
Ванюша постоял у калитки, поискал, на чем бы остановить свой взор, — не нашел. Пощурился, всласть зевнул и неторопко свернул направо, к Волге. Проулок не проулок, а что-то похожее на щель между строениями, — узко, криво и грязно, несмотря на теплынь.
Налево — трухлявый, ветхий забор с выжеванными временем тесинами, подале — низенькое, каменное, длинное, когда-то обмазанное глиной строение без окон, с какими-то узкими продухами. Из продухов тянет теплым серным смрадом, как из ада. Это — селитряно-серно-купоросные заводы купца Подушкина и Матрены Волчихи. Направо — похожее по фасону сараеобразное сооружение, только повыше и подлиннее, — кожевенно-строгальные заводы Григория Серова. Заваленки обильно засыпаны мелкой кожевенной стружкой. Нестерпимо несет прелой кожей и дубильными специями.
Желтые, зеленые, оранжевые, бордовые ручейки несмело пробиваются из всех щелей справа и слева, дружески сливаются посреди проулка в один мутно-грязный поток. Этот поток, образуя за собою цветные заводи и займища, бойко пробивает путь к Волге.
За забором Матрены Волчихи высокий тенор старательно выводит:
«Не велят Ма-а-ше за реченьку ходить,
Не велят Маше моло-мо-о-лодчика любить…»
Ваня ловко вскарабкался на забор:
— Семен, ты?
— Я за него.
— Федор Григорьевич не приехал?
— Ждем от часу. Все жданки поели.
— Ты, коли что — махом. Стукни в окошко. Дело есть.
— Да он и сам, чай, не утерпит, прибежит. Ваня спрыгивает с забора и шагает дальше.
Но вот он облокотился на балясину над обрывом, задумался, — залюбовался водным простором.
Полая вода давно уже спадает, но водная гладь еще необъятна. Под лучами горячего солнца она сверкает и искрится, местами — нестерпимо для глаз, как огромное отражающее зеркало. Нынче что-то особенно ярко.
Над противоположным, очень далеким берегом висит лиловатая мгла. Берег в ее мареве кажется призрачным, неустойчивым, колеблющимся в струях жаркого воздуха. В одном месте — очень далеко — по безоблачному небу тянется длинная дымчатая коса. Где-то за Волгой горит лес.
Ваня стоит долго и неподвижно. Он не может оторвать глаз от притягивающей лиловой дали. Эта даль обладает колдовской силой. С трудом оторвался…
Ваня Нарыков, как и многие из его товарищей семинаристов, уже не первый год принимал участие в постановках школьных действ, которые входили в программу их семинарии или Славяно-латинской академии, как она громко именовалась.
Действа те совершались довольно часто, не менее двух-трех раз в год, а вот как надлежит действовать, толком никто из ученых профессоров академии не мог объяснить.
Архимандрит о. Иринарх, руководитель класса пиитики и реторики, он же заведующий «пещными» и иными действами, объяснял «кумедиантам», не мудрствуя лукаво: чти протяженно и с повышениями, яко «Апостол» чтут.
Однако этот совет почтенного семинарского хорега мало кого удовлетворял. Приходилось доискиваться секрета действа собственными силами и личными догадками. Раньше, когда в Ярославле проживал «первый комедиантщик города», бывалый молодой купец Федор Григорьевич Волков, он немало помогал ребятам своими советами и личным участием. Но в настоящее время Федор Волков находился в Санкт Петербурге и ничем не мог помочь.
Семинарские экзамены уже закончились, однако через несколько дней предстоит заключительный акт школьного года — представление «Комедии о покаянии грешного человека», — творения чтимого и, так сказать, своего домашнего святого[1].
Ване Нарыкову в «Покаянии» надлежит выполнить сложную и многословную «акцию» человека, с головы до ног обремененного грехами всего мира.
Приняв на себя такую тяжелую обузу, семнадцатилетний семинарист на предварительных пробах[2] никак не мог войти в обиход апостольского велеречия.
Юный комедиант был совсем подавлен и чужими грехами и своим собственным неразумием. В то же время о. Иринарх, казалось, был в восторге, горячо хвалил и подбодрял семинариста:
— Изрядно!.. Отменно!.. Добропорядочно!.. Тако, тако, бурсаче, чти, яко «Апостол» чтут, его же не прейдеши. Тако вточию, я заключаю, святой псалмопевец царь Давид певал свои божественные покаянные псалмы под звуки псалтири десятиструнной.
Ваня Нарыков изо всех сил тщился влезть в шкуру псалмопевца и с ужасом чувствовал, что шкура на него не налезает.